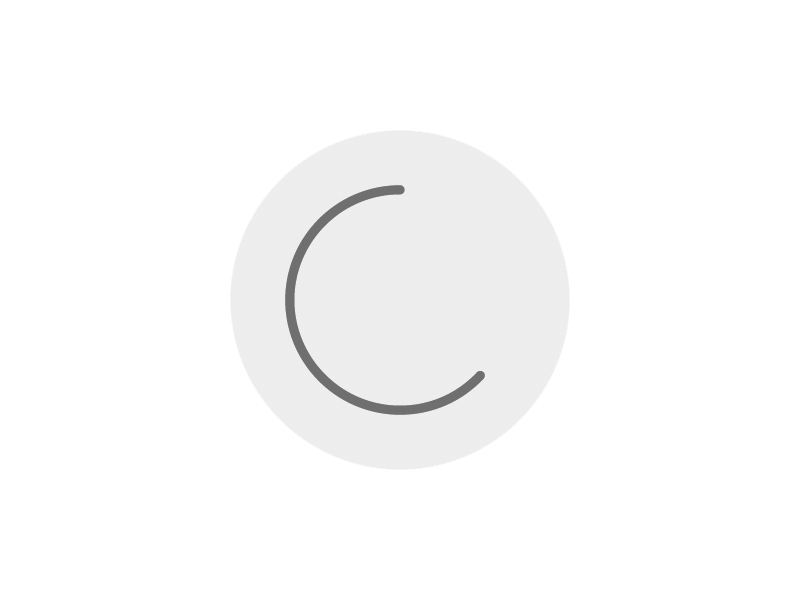Польская литература онлайн №5 / Описания (2): Хоффман — Вермеер — Шимборская
Вислава Шимборская
ВЕРМЕЕР
Покуда эта женщина в Риксмузеум
в написанной тишине и в средоточенье
молоко из кувшинчика в миску
каждодневно переливает,
Свет не заслуживает
конца света
Перевод А. Эппеля. [1].
(из сборника «Здесь», 2009)
Кшиштоф Кучковский
МОЛОКО ВЕРМЕЕРА. Доказательство
существования Бога? Откуда меньше всего
ожидаешь — от Шимборской, от женщины
из Риксмузеум? Пока молоко в кувшине,
мир будет существовать.
Этот жест гения — наклон кувшина,
движение руки, невозможное без
Создателя.
(фрагмент поэмы «Хоффман. Семь попыток темы: поэт, стихотворение» из сборника «Стихотворения [массовые] и другие», 2010)
3 марта 2009 года умер Казимеж Хоффман, поэт, философ, журналист, много лет проработавший в Польском агентстве печати. Поэтом он был превосходным, одним из первых среди выдающихся. Я имел удовольствие знать его лично. Мне довелось быть издателем и редактором трех его поздних книг: «Десять попыток темы: поэт, стихотворение» (2001), «По дороге» (2004) и «A-dur» (2007). Хоффман читал свои стихи в Сопоте, приходил на мои авторские встречи, когда я читал стихи в «его» Быдгоще. Время от времени мы разговаривали по телефону. Звонил он, и говорил, главным образом, он, я слушал. На Рождество он присылал открытки с прилагавшейся к ним преломленной облаткой. И это был не просто приятный жест традиционалиста. Как метко замечает поэт и эссеист Петр Матывецкий: «За всеми интуитивными прозрениями, ощущениями и размышлениями Хоффмана скрыта глубочайшая, деликатнейшая тоска по Абсолюту, по Богу. Бог в этой поэзии выступает как великое, непознаваемое ЭТО — и в то же время Он невероятно близок нам, поскольку требует от нас человечности».

К исповедуемой им «этике мысли» Хоффман относился невероятно серьезно. В ней не было места для шуток и литературных шалостей. У меня возникало впечатление, что годами, от книги к книге, он отшлифовывает одну большую поэму, разнообразные сюжеты которой ведут к общему финалу. Этим финалом было одобрение универсального порядка или, возможно, скорее — «ДА», адресованное предустановленной гармонии бытия. Поэтому он и не оставлял в покое всех тех, кто, как ему казалось, несерьезно относился к миру и его духовной основе. Он вел поэтический, критический диалог с Тадеушем Ружевичем, но больше всего его удручала Вислава Шимборская, мастер тонкой иронии. Это была уже настоящая война… в стихах. На публикацию Шимборской текста «Кое-что о душе» (из сборника «Мгновение», 2002) — напомним, что стихотворение начинается фразой: «Душа бывает по временам. Ни у кого ее нет непрестанно и навсегда
Каким же было мое удивление, когда в феврале 2009 года, при посещении умирающего поэта в хосписе «Сью Райдер» в Фордоне под Быдгощем, я заметил на столике у его кровати только что вышедший сборник Шимборской «Здесь». Он сказал: «В ее ”Вермеере” есть доказательство существования Бога. Однако!». Признаюсь, что тогда я недостаточно глубоко проникся этим доказательством. Я подумал: «Отлично! Раз он читает стихи, значит держится за жизнь». Вернулся домой в Сопот и написал поэму «Хоффман. Семь попыток темы: поэт, стихотворение». Она должна была стать попыткой портрета автора «Камня Мура»
Я рассказываю о Хоффмане не только потому, что он был важным для меня поэтом. Здесь я говорю о нем, прежде всего, потому, что он стал частью странной жизни девушки, наряженной в белый, желтый, красный и синий цвета, девушки, которая с XVII века переливает молоко из кувшина в миску и будет переливать его до скончания веков. Возможно и такое, что дородная молочница делает свое дело с самого сотворения мира, только мы ничего об этом не знали, ведь Вермеер нарисовал ее лишь в Золотой век нидерландской живописи. Он написал ее экономными средствами, окружив практичной утварью, о которой обычно говорят, что она «повседневного использования», хотя она, конечно не используется каждый день: столик накрытый скатертью, посуда — кельнская кружка, фаянсовая миска, корзинка (с хлебом), но еще и стоящий на полу чугунный обогреватель для ступней, на стене плетеная корзина (может быть, для хранения свечей) и медная коптилка, в стене гвоздь. Гвоздь — это утварь? Кажется, нет, это гвоздь, но его нельзя не упомянуть, раз в стену его вбил Вермеер. Пространство картины организовано также небольшим видимым фрагментом пола, ободранной стеной и — в первую очередь — окном. Вливающийся через него свет бросает отблески на лицо женщины, скатерть, осветляет стену. Именно благодаря свету мы знаем, что молоко — это молоко, а из стены торчит гвоздь.
Частью странной жизни девушки, переливающей молоко, стала и Шимборская. Автор Мгновения, так же как Вермеер, пользуется экономными средствами. Чтобы написать стихотворение о художнике (?), поэтессе хватило 25 слов, не считая названия. Одно обстоятельственное сложноподчиненное предложение с придаточным времени или — в зависимости от интерпретации — условия оказалось трактатом о той, что, переливая в «тишине и в средоточенье молоко из кувшинчика в миску», поддерживает мир в существовании. Поэтесса пишет, что миру, чтобы существовать, нужны тишина и сосредоточенность. Несомненно, ему нужны еще размышление, рефлексия, концентрация на том, что важно. Важными оказываются простые действия. В них есть природное достоинство, непосредственность, непринужденная прелесть. Простые действия выполняются потому, что они нужны. Мы можем даже сказать, что они необходимы. Чем больше в нашем действии сложностей — возможных и невозможных вариантов, — тем больше избыточность этого действия. «Свет не заслуживает конца света», потому что есть места, в которых не слышно шума, производимого действиями любителей бренного. В каморке, написанной Вермеером, и во всех каморках мира, где в тишине и сосредоточенности идет работа над чистотой намерения и чистотой жеста, время остановилось. «И ни было, ни есть. Лишь вечное длится мгновенье
Именно «вечное мгновенье» соединило Вермеера и молочницу, Шимборскую и Хоффмана. И соединило самым буквальным образом. Я представляю себе их всех в одной комнате, погруженными в мягкий, тихий свет, которым «великое, непознаваемое ЭТО» окутывает тех, кто тоскует о познании Бога, даже если желание это «глубочайшее, деликатнейшее».
В конце я должен признаться в том, что и так, наверное, всем уже ясно. Именно о нем, о вечном мгновении пытался я написать эти несколько слов, делая вид, что пишу о картине Вермеера и стихотворении Шимборской.