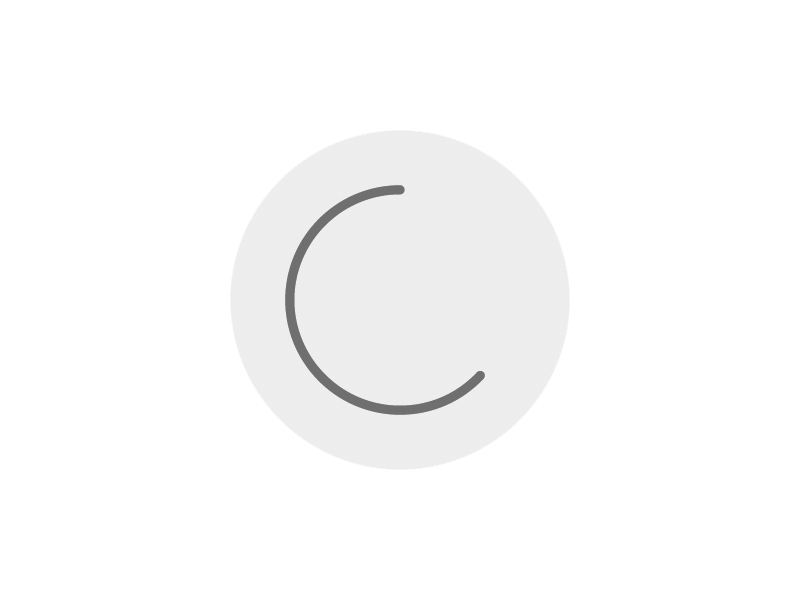В поисках русской интеллигенции
Опубликованная в Москве на пороге XXI века толстая книга научных статей и публицистических очерков «Русская интеллигенция. История и судьба» затрагивает почти все «вековечные» и «посюсторонние» вопросы, о которых на протяжении XIX и XX столетий беседовали «русские мальчики» разных поколений и всевозможных идеологических направлений
И все же нельзя сложную судьбу интеллигенции отождествлять с историей русской мысли. Совершенно прав Ричард Пайпс, утверждая в своей книге «Россия при старом режиме»:
интеллигент — это тот, кто не поглощен целиком и полностью своим собственным благополучием, а хотя бы в равной, но предпочтительно и в большей степени печется о процветании всего общества и готов в меру своих сил потрудиться на его благо. По условиям такого определения, образовательный уровень и классовое положение играют подчиненную роль. Хотя образованный и обеспеченный человек, естественно, лучше может разобраться в том, чтo же не так в его стране, и поступать сообразно с этим, совсем не обязательно, что ему придет охота это сделать. В то же самое время простой полуграмотный рабочий человек, пытающийся разобраться в том, как действует его общество, и трудящийся на его благо, вполне отвечает определению интеллигента. Именно в этом смысле в конце XIX в. в России говорили о «рабочей интеллигенции» и даже о «крестьянской интеллигенции».
Пайпс Р. Россия при старом режиме / Пер. с англ. В. Козловского. Кембридж, 1980. С. 336–337. [4]
Пайпс пишет и еще об одной отличительной черте русской интеллигенции с самого момента ее возникновения сразу после смерти Петра I:
На всем протяжении русской истории «группы интересов» боролись с другими «группами интересов» и никогда — с государством. Стремление к переменам должно было вдохновляться не личным интересом какой-то группы, а более просвещенными, дальновидными и великодушными мотивами, такими, как чувство патриотизма, справедливости и самоуважения.
Там же. С. 334. [5]
Две интеллигенции в XIX веке
Формулируя свою дефиницию, Пайпс полемизирует — на мой взгляд, очень убедительно — с двумя определениями интеллигенции, широким и узким, существующими в России примерно со второй половины XIX века. В широком смысле интеллигенцией называют тех, кого французы именуют «les notables». Пример такого понимания дает И.С. Тургенев в «Странной истории» (1869): герой рассказа, приехавший по долгу службы в провинциальный город, слышит из уст местного помещика, что на предстоящем в дворянском собрании большом балу можно будет увидеть «всю нашу интеллигенцию», то есть и городского врача, и учителя
Такая широкая дефиниция интеллигенции постепенно вышла из употребления в царской России, чтобы вновь воскреснуть в Советском Союзе. Коммунистический режим не мог согласиться с существованием интеллигенции как отдельной социальной страты, поскольку это не укладывалось бы в «марксистскую классовую схему»; с другой стороны, и изъять это понятие из русской речи и традиции новый режим не мог. Поэтому в новой действительности термином «интеллигенция» начинают определять категорию «образованных профессионалов» (в Европе — «белые воротнички»). Здесь Пайпс резонно констатирует:
В силу такого определения председатель КГБ и академик Сахаров оба являются представителями «советской интеллигенции».
Там же. С. 335. [7]
Традиция узкого понимания слова «интеллигенция» уходит корнями в 70-е годы ХIХ века, когда этот термин, прежде несший объективно-описательную функцию, принял черты субъективно-нормативные. В 1870-х на русской почве появилась сильная группа молодых людей — атеистов, социальных и политических радикалов, «критически мыслящих личностей» в духе Петра Лаврова и террористов наподобие Петра Ткачева и Сергея Нечаева, — которые начинают утверждать, что право носить титул «интеллигента» принадлежит им и только им.
Именно этот узкий термин «интеллигенция» использовали почти все авторы сборника «Вехи» (1909), предостерегая от последствий умственного творчества и практической деятельности русских атеистов, материалистов и радикалов второй половины XIX века.
В сборнике «Вехи» наиболее характерна статья П.Б. Струве «Интеллигенция и революция», настаивающего на узком понимании интеллигенциии в противовес всем остальным: и вышеупомянутому тургеневскому («публика, бывающая на балах в дворянском собрании»), и «интеллигенции как образованному классу», то есть людям умственного труда («intellectual»).
Для Струве «интеллигенция» — это категория политическая, начавшая существовать в русской жизни в эпоху реформ Александра II и окончательно проявившая себя в революции 1905–1907 годов. Идейная форма ее существования, по мнению Струве, — «безрелигиозное отщепенство от государства»
Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей разных формаций культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. <…> Владимир Соловьев вовсе не интеллигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков так же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-различному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем весь русский либерализм — в этом его характерное отличие от славянофильства — считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками.
Там же. С. 163–164. [9]
И вот, наконец, умозаключение Струве:
Восприятие русскими передовыми умами западноевропейского атеистического социализма — вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин <…>. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. <…> В дальнейшем развитии русской общественной мысли Михайловский, например, был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с головы до ног интеллигент.
Там же. С. 162–164. [10]
Струве в своем узком понимании русской интеллигенции формально идет по следам тех, кого он так сильно критикует: здесь меняется только аксиология, но не содержание понятия. Что у революционеров-народников и революционеров-социалистов было «единственно хорошим и желанным», у Струве делается «самым дрянным». Однако список представителей интеллигенции остается и у Бакунина, и у Струве одним и тем же: сюда включаются Чернышевский, Михайловский, Лавров, Ткачев и даже Нечаев, а бесповоротно исключены Чаадаев, Достоевский, Владимир Соловьев и Лев Толстой
Этому воистину «партийному мнению» противоречат, однако, многие другие высказывания авторов «Вех». Джованна Калебич-Креацца, современный итальянский исследователь русской мысли, в своей книге «“Вехи” и проблема русской интеллигенции» остроумно замечает, что когда Петр Струве, Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Булгаков, Александр Изгоев прогнозируют будущее интеллигенции в России, то «порою начинают словно бы противоречить сами себе»:
…авторы «Вех» рассчитывают на духовное перерождение и перевооружение той русской интеллигенции, к которой обращена их жестокая критика. <…> В этом и состоял смысл их проповеди и обращения — они и сами ведь еще вчера только были плоть от плоти и кровь от крови ее.
Калебич-Креацца Д.К. «Вехи» и проблема русской интеллигенции. К истории термина «интеллигенция» в русской общественной мысли. М.: Континент, 1993. C. 60–61. [12]
Николай Бердяев писал, что «интеллигентское сознание требует радикальной реформы, и очистительный огонь философии призван сыграть в этом важном деле немалую роль». Интеллигенция обязана осознать «виновность» своей «умопостигаемой воли», и «тогда народится новая душа интеллигенции»
Из статьи Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» явно вытекает, что родоначальниками этой «новой интеллигенции» — а к ней надо присоединить и самих авторов «Вех», которые прошли путь от марксизма к идеализму, а затем к «неохристианству», — надо считать Петра Чаадаева, Владимира Соловьева, Бориса Чичерина, кн. Сергея Трубецкого, Николая Лосского
Oткуда есть пошла русская интеллигенция?
Самой интересной из теоретических статей московского сборника «Русская интеллигенция. История и судьба» можно считать текст Игоря Кондакова «К феноменологии русской интеллигенции». Автор также описывает здесь несколько способов толкования термина «интеллигенция», прижившихся в русской традиции. О первом понимании, узком, то есть революционно-атеистическом, мы уже говорили в связи с русским народничеством, социал-демократией и сборником «Вехи». Вторая традиция (Николай Бердяев, Владимир Ленин) ищет генезис русской интеллигенции в екатерининском позднем XVIII веке и связывает его с тогдашним вольномыслием («вольтерьянство», масонство
Эта традиция исследования генезиса русской интеллигенции была плодотворна тем, что обозначала драматическую коллизию, сопровождавшую в дальнейшем всю историю русской интеллигенции — сложные взаимоотношения интеллигенции с властью и государством. <…> Сложившийся было в XVIII веке альянс между правящей дворянской элитой (бюрократией) и духовной элитой (просвещенным дворянством) быстро распался из-за принципиального различия систем ценностей в них: если для правящей элиты высшей ценностью являлась политическая власть, участие в принятии государственных решений, то для элиты духовной высшей ценностью была личная независимость и свобода творчества, мысли, слова, совести…
Там же. С. 82–83. [19]
Сторонники четвертого способа поиска корней русской интеллигенции начинают чуть ли не с «призвания варягов» и «потопления Перуна» и находят эти корни в истории Древней Руси: по Георгию Федотову, первые «русские интеллигенты» (еще, конечно, условно) — это православные священники, монахи и книжники Киевской и Московской Руси
Чтобы не заблудиться в этой многослойной классификации, надо вновь обратиться к упомянутой книге Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Прежде чем адекватно охарактеризовать содержание термина «интеллигент» (человек, которого отличает «приверженность общественному благу»
Интеллигенция зарождается в России лишь после смерти Петра I вследствие облегчения государственной службы дворян. Именно тогда и складывается «праздный класс» (leisure class), то есть элита дворянства, которая находит все больше времени для умственных и духовных занятий. Следующей вехой на этом пути был изданный в 1762 году «Манифест о вольности дворянской» Петра III, уже вполне освобождающий дворян от государственных повинностей. В 1775 г., при Екатерине II, в русском переводе выходит первый том главного произведения Монтескье «О духе законов», где говорится о принципе разделения властей и «необходимости тесного сотрудничества между короной и знатью». Дух западных сочинений, Монтескье и Беккариа, сильно чувствовался в известном «Наказе» Екатерины II и в работах созванной ею в 1767 году Комиссии для сочинения проекта нового уложения (конституции)
И все-таки в его заключении о том, что «всемогущее русское государство сумело создать даже свою противодействующую силу» (интеллигенцию), не хватает одного очень существенного момента. Ведь интеллигенция оказывается истинно русским явлением не только потому, что императоры XVIII века решили «раскрепостить дворянство», но еще и потому, что в то же самое время они закрепостили крестьянство. Петербургский период русской истории характеризуется быстрой европеизацией дворянства и еще более молниеносной «азиатизацией» (порабощением) крестьянства. Первые русские интеллигенты из дворян, Новиков и Радищев, будут очень серьезно заниматься именно крестьянской проблемой, точно так же как и самые умные среди декабристов — Николай Тургенев и Никита Муравьев. Если уж искать истоки большевистского переворота в XVIII веке, то среди главных его причин надо видеть не европеизацию страны Петром Великим, не влияние западных идей, пришедших в Россию через Петербург («окно в Европу»), а роковое затягивание решения крестьянского вопроса. Вот широкое поле деятельности для всей интеллигенции — славянофилов и западников, левых и правых, либералов, революционных и христианских демократов, нигилистов, социалистов, народников, марксистов и большевиков.
Интеллигенция советская и антисоветская
Описанная И.В. Кондаковым очередная, пятая традиция трактовки интеллигенции в России рождалась постепенно, вместе с развитием и приходом к власти русского марксизма, или, точнее говоря, его большевистского варианта. Автор подчеркивает, что на первом этапе революции большевизм впитал в себя идеологию Яна-Вацлава Махайского, автора антиинтеллигентской работы «Социалистическая наука как новая религия» (1905–1906). В «махаевщине» интеллигенция объявлена классом враждебным революции и паразитическим, в то время как основой народной революции сочтены «деклассированные элементы», «люмпен-пролетариат», всякого рода босяки и хулиганы. Как иначе, если не актом «большевистской махаевщины», можно назвать изгнание из Советской России мыслителей и литераторов на «философском пароходе» (1922) или показательные процессы «буржуазных спецов»?
И вот примечательный вывод Кондакова:
Ирония истории состояла в том, что искусственно выращиваемая «советская интеллигенция» во многом воспроизводила основные черты дореволюционной русской интеллигенции: рефлексирование культурных ценностей и смыслов само по себе способствовало формированию интеллигенции как <…> общности «людей культуры». <…> В то же время интеллигенция несла в себе огромный потенциал духовного противостояния тоталитаризму. <…> Страшное испытание ГУЛАГом, выпавшее на долю русской интеллигенции в эпоху сталинского тоталитаризма, предельно сблизило опыт «простого народа» и интеллигенции, привело к уникальному в мировой истории «слиянию опыта» верхнего и нижнего слоев общества. Не случайно потрясение этим опытом породило в среде русской интеллигенции двух великих протестантов, своей деятельностью приблизивших конец тоталитаризма во всем мире и обусловивших крах русского коммунизма, — А.Д. Сахарова и А.И. Солженицына.
Там же. С. 85, 87–88. [26]
Этого, конечно, недостаточно для полного описания истории интеллигенции в СССР. Как заметил философ-диссидент 60–70-х годов Владимир Кормер, в ее среде существовал также довольно стойкий принцип раздвоенности, двойного сознания и конформизма. Советский интеллигент новой эпохи заигрывал с властью, избегая при этом прямого участия в зле, что особенно ярко проявилось после хрущевской оттепели у шестидесятников, мечтавших о «социализме с человеческим лицом»
Следующим вопросом сборника «Русская интеллигенция. История и судьба» стала проблема так называемой «образованщины», затронутая в перепечатанном здесь одноименном тексте Солженицына из сборника «Из-под глыб»
В этом контексте внимания и солидной полемики заслуживает текст Константина Соколова «Мифы об интеллигенции и историческая реальность», который не принимает дефиниции интеллигента, данной Пайпсом, а заодно отвергает и «формулу Лихачева», звучащую следующим образом:
…интеллигенты — это не просто люди, занятые умственным трудом, имеющие знания или даже просто высшее образование, а воспитанные на основе своих знаний классической культуры, исполненные духа терпимости к чужим ценностям, уважения к другим. Это люди мягкие и ответственные за свои поступки, что иногда принимается за нерешительность. Интеллигента можно узнать по отсутствию в нем агрессивности, подозрительности, комплекса собственной неполноценности, по мягкости поведения.
Соколов К.Б. Мифы об интеллигенции и историческая реальность // Русская интеллигенция. История и судьба. С. 150. Курсив автора. Ср.: Он же. Художественная культура и власть в постсталинской России. Союз и борьба (1953–1985). СПб.: Нестор-История, 2007. [31]
Все это, по мнению Соколова, только искусственные мифы, созданные самой интеллигенцией для собственной выгоды.
Автор утверждает, что предметом трудов русской интеллигенции всегда была забота о победе такой картины мира, которая могла бы привести эту интеллигенцию к участию во власти: «Как только власть принимает сторону одной из борющихся групп “интеллигентов-экспертов” с ее картиной мира, конкурирующие картины мира ликвидируются властью-государством»
Так, кстати, бывало и в Европе еще в эпоху Возрождения, о чем свидетельствует случай Галилея:
Мало кто вспоминает, что в борьбе с научными открытиями тон задавали не Церковь, а сами «интеллигенты-эксперты», боровшиеся за признание «своей» картины мира. Так, хотя в своей энциклике 1979 г. Папа Иоанн Павел II отметил, что Галилей сильно пострадал от Церкви, то врагами были отнюдь не монахи, а коллеги — университетские профессора. Именно из-за боязни послужить мишенью для насмешек Галилей лишь после 50 лет отважился поддержать идеи Коперника.
Там же. С. 177. Стоит добавить, что Иоанн Павел II высказал свое критическое мнение насчет преследований Галилея «людьми Церкви» не в энциклике, а в обращении к членам Папской академии наук, 10 ноября 1979 года в Риме. [34]
Конечно, всякое бывало в истории русской интеллигенции. Михаил Ломоносов донес на историка Миллера, усомнившегося в факте пребывания в России апостола Андрея, что будто бы тем самым он «оскорбил императора Петра, учредившего орден Андрея Первозванного». Белинский писал несправедливые слова о Тарасе Шевченко, украинцах, евреях и поляках, а о черногорцах говорил, что их «надо вырезать всех до последнего»
Где тогда Солженицын, Сахаров, Надежда Мандельштам, Буковский, Шаламов, Василий Гроссман, где рабочий интеллигент Анатолий Марченко, где Галансков и Даниэль? Где Аверинцев, Гаспаров (автор предисловия к сборнику), Лотман и Топоров? А где цвет русской интеллигенции в изгнании: Берберова, Максимов, Синявский, Бродский, Струве, Горбаневская в других ипостасях, Галич, Гинзбург, Владимов, Иловайская-Альберти?
Cегодня и завтра
Редакция сборника приглашает своих читателей прислушаться к полифонии мнений еще и других авторов: Юрия Степанова, Михаила Гаспарова, Виктора Петрова, Вадима Кожинова, Бориса Егорова, Татьяны Романовской, Татьяны Шах-Азизовой, Инны Вишневской, Николая Балашова, Риммы Байбуровой, Наталии Матхановой, Владимира Жидкова, Виталия Дмитриевского, Георгия Кнабе, Владимира Кантора, Владимира Катаева, Неи Зоркой, Михаила Ульянова, — «отражающих взгляд русской интеллигенции конца XX в. на саму себя»
Однако на самом видном месте книги, на суперобложке, редактор решил опубликовать фрагмент из «мировоззренческого очерка» Вячеслава Всеволодовича Иванова «Интеллигенция как проводник в ноосферу»:
Интеллигенции в том виде, как она сложилась и вопреки всем гонениям и испытаниям все еще сохраняется в России, удалось сквозь века притеснений пронести несколько простых и важных истин. К ним относятся прежде всего принципы общечеловеческой морали, одинаково чуждые циничным политикам и дельцам любой ориентации. Отличие интеллигента от лиц других групп состоит не в наборе политических убеждений и не в какой-то определенной религии или ее отрицании. Во всех этих сферах существует полная свобода выбора из многих возможностей. Но сам по себе интеллектуальный выбор и многообразие этих возможностей существуют благодаря интеллигенции.
Иванов Вяч.Вс. Интеллигенция как проводник в ноосферу // Русская интеллигенция. История и судьба. С. 59–60. [40]
А это уже немало.