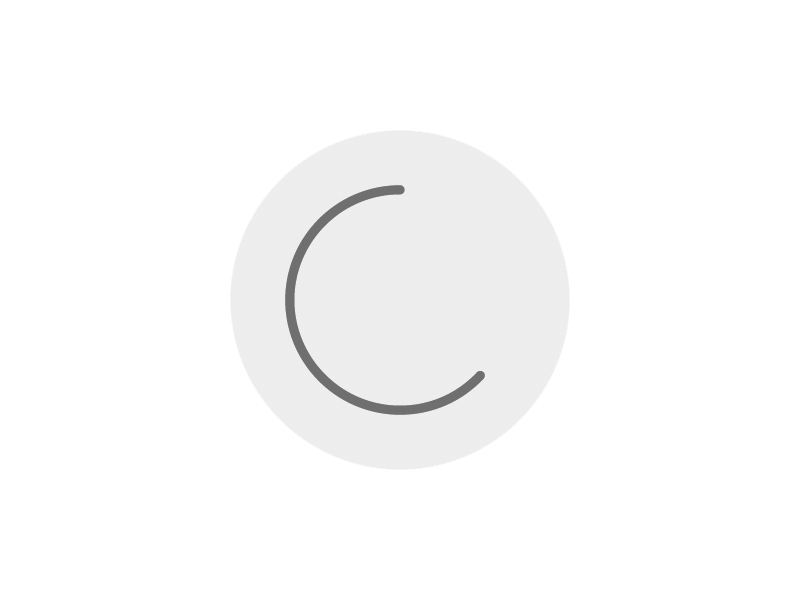Урок (из) молчания. Заметки на полях «Печати невежды» Войцеха Касса [с добавлением заметок о поэзии Чеслава Милоша и Тадеуша Ружевича]
0.
В последнем сборнике стихов Войцеха Касса мне попалась следующая «записка»:
Это стихотворение было слишком слабым, чтобы выжить
чтобы мне захотелось его записать
прочитать его вслух, прочитать много раз
вычеркнуть немые и глухие слова
подпорки для фасоли, как у нас говорят в ближнем кругу
Kass W. Pieczęć ignorancji [Печать невежества]. В: Wiry i sny [Вихри и сны]. Sopot, 2008. С. 39. [1].
Я написал: «записка». Потому что этот текст, по крайней мере, поначалу, вероятно, должен удивить читателей поэта из лесной сторожки Пране. Что это вообще? Возможно ли, что это стихотворение вышло из-под пера стихотворца, прочно — прочнее многих — утвердившегося в выбранном им самим языке, декларирующего неоспоримые человеческие ценности и нежность к миру? Творца, для которого
«Поэзия, — как замечательно сказал Пшемыслав Дакович после прочтения «Вихрей и снов», — кажется необходимым элементом <…> жизни, она предстает как опыт одновременно интимный, обязательный и очевидный, словно дыхание. <…> [Войцех Касс] говорит лаконично: Я есть, мир есть. Поэзия — простое следствие этих двух утверждений. Потому что язык обитает в реальности, находится в ее центре, не снаружи
Dakowicz P. Lunatyk światła [Лунатик света]. Topos. 2008. № 6. С. 147–148. [2]».
На фоне переполненной светом (фактура буквально ослепляет) и любовью (единственный принцип) реальности текстов «Звезды Боярышник» стихотворение под названием «Печать невежды» кажется полоской тени, рожном, вбитым в незамутненную уверенность, листком из записной книжки поэта, который читатель никак не может поймать, даже если тот летит ему прямо в руки. Набросок, сделанный в интимной обстановке, может быть, под натиском «ночных окон»...
1.
А потом — изумление! Но вызванное совсем другими — не теми, к которым нас приучил Войцех Касс, — впечатлениями. Ибо что есть письмо, что есть для автора стихотворение «К свету»? Вот несколько фраз, выписанных во время чтения «Вихрей и снов» и обрамляющих немного загадочный текст:
Поэзия делает места бóльшими, чем они есть
Kass W. Gra w marynarza [Игра в моряка]. В: Wiry i sny [Вихри и сны]. С. 10. [3].
Поэт дает словам условный срок,
чтобы они открывали
закрытый свет,
чтобы они закрывали
открытую тьму
Kass W. Pocałuj w usta światło [Поцелуй свет в уста]. Там же. С. 1. [4].
Ты весь происходишь из эпики, мой тихий нарратив
Kass W. Przechodniu spójrz na koła [Прохожий, смотри на колеса]. Там же. С. 16. [5].
Когда устанешь от разрушения, возвращайся в лес
и найдешь свой голос
Kass W. Tak się schowałeś, że nie potrafisz siebie znaleźć [Ты так спрятался, что не сможешь себя найти]. Там же. С. 19. [6].
Поэт, в стихотворении должно оставаться дыхание
Kass W. Stopniowanie zawiasu [Рубежи условного срока]. Там же. С. 29. [7].
2.
Несомненно, прав был Пшемыслав Дакович, написавший, что Чеслав Милош близок автору «Вихрей и снов»
В своем творчестве, особенно в 1990-е годы, Милош часто отказывается от необходимости называния. Восхищение рождает «онемение», погружение в молчание перед лицом феномена обнаженного существования, желание ограничить объективистские устремления и стать «просто созерцающим». Этот мотив представляется весьма знаменательным, поскольку он почти навязчиво повторяется в поздних работах автора «Придорожной собачонки»:
Ибо жить на земле — уже слишком много, чтобы хоть как-то это назвать
Милош Ч. Отчет // На берегу реки / Пер. Н. Кузнецова. М.: ТЕКСТ, 2017. [9].
Он хочет лишь одного, и это бесценно:
Быть чистым созерцанием — безымянным
Милош Ч. Лишь одно // Хроники / Пер. Н. Кузнецова. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2020. [10].
И превратившись в чистое зрение, буду дальше вбирать в себя пропорции человеческого тела, цвет ирисов, парижский бульвар на рассвете, всё непостижимое многообразье видимых вещей
Милош Ч. Честное описание самого себя за стаканом виски в аэропорту, скажем, Миннеаполиса / Пер. Н. Кузнецова: https://polskayaliteratura.eu/chitalniy-zal/statya/chestnoe-opisanie-samogo-sebya-za-stakanom-viski-v-aeroportu-skazhem?s=c [11].
Почему язык непременно должен быть домом бытия? «Давайте не будем поддаваться, — говорит Милош, — твердому убеждению о языковой природе бытия». Бытие выражает предмет. Язык выражает бытие. Но языком оно не исчерпывается. Отделяя название от вещи, мы доходим до обнаженного существования, не отягощенного разъяснением. Взгляд на вещи не обязательно должен быть прелюдией к их называнию. Взгляд — это начало и конец, источник нашего блаженства. К чему это ведет? Это не ведет ни к чему
Там папоротник светится на солнце
И купы всевозможной формы листьев:
ланцетовидных, мечевидных,
лопатчатых и сердцевидных,
<...>и зубчатых — каких там только нету.
Милош Ч. У ручья / Пер. Н. Кузнецова: https://polskayaliteratura.eu/chitalniy-zal/statya/u-ruchya?s=c [13]
Что делать с этой неизбежной апорией? Я говорю, что не должен говорить. «Экстатическое восхваление существования» начинается в полном тишины восхищении, и, после обнаружения невыразимости, вновь растворяется в нем. Я мог бы не сказать ничего, но тогда вы не узнали бы, что я считаю это возможным. Я проектирую отказ от проекта. Поэтическое слово открывает читателю возможность безмолвного обращения к ослепительномy, это не «передача содержания», а самое настоящее прочувствование. Ничего позитивного на этом построить нельзя. Отсюда — молчание. В связи с достижением предела потребности в выражении.
Заметим, что усилие поэта, предшествовавшее эпифании, не имеет значения
<…>
Будьте собою, земные вещи, будьте собою.
Не полагайтесь на нас, на наше дыханье,
На прихоть неверного, жадного глаза.
Мы тоскуем по вам, по сущности вашей,
Чтоб вы были такими, какие вы в себе,
Чистыми и не зримыми никем
Милош Ч. Кто? // На берегу реки / Пер. Н. Кузнецова. М.: ТЕКСТ, 2017. [15]
Не думаю, что Войцех Касс мог бы подписаться под этими словами. Не-облеченное-в-слово сводится у него просто к небытию. Хотя бы потому, что за пределом слова нет мира ценностей и теряется наша ориентация в мире. А что же еще точнее свяжет нас с вещью, выявит общие места, откроет диалог, позволит, наконец, вступать в отношения? Зачем тратить временя на пустые сочинения феноменологов, воображение без-человеческого мира, если имена, применимые к вещам, позволяют на них указывать. Жене, сыну. Тем, кто слушает.
Перелески, фиалки, мышиный горошек, анемоны, кислица,
Одуванчик лекарственный, спорыш, гусиная лапка,
Хризантемы, крестовник, плющевидная будра и гайники —
Сколько всего за время короткой вылазки в лес
Kass W. Modlitwa o łagodność rosiczki [Молитва о нежности росянки]. // Wiry i sny [Вихри и сны]. С. 22. [16]
Даже тень замирает, «словно ищет в дереве обитель»... Вспомним этот завораживающий (sic!) своей простотой фрагмент. В нем видно implicite безграничное принятие существующего языка. Что же нам делать после соблазна объективной репрезентации, языка, идеально (геометрически) прилегающего (logos, legein) к вещам? Имена есть потому, что они есть. И их достаточно. Печальные, погруженные в мрачные мысли поэты, которые в молчании посвятили себя «извлечению слов» — стремясь к сути, «протравливая язык ради чистоты» (Карпович) или веря, что пространство письма окажет миру «второе сопротивление» (Вирпша).
Милоша завораживает то, что в действительности не облечено в слова, невыразимо. Касс позволяет читателю поверить, что невыразимое — это попросту то, что не выражено. Ибо на кону в этой игре — красота и ценности. И это должно быть вербализировано. Таким образом, эта поэзия дает веру в то, что деконструктивистские стилистические упражнения не уничтожили в нас чувство языка, который был в распоряжении у каждого. Языка, в котором мы выросли.
Я вспоминаю, как, объясняя принципы поэзии Уильяма Карлоса Уильямса (среди которых наиболее важные — брать за точку отчета сами вещи, отказываться от каких бы то ни было понятий и начинать с того, что проявляется в зрительном восприятии), Аллен Гинзберг писал, что создание хорошего стихотворения зависит от того, насколько
ловко мы можем описать то, что мы видим, [так], чтобы это [стало] общей почвой, где все находятся в одном и том же месте, так, что его можно было использовать как точку отсчета. <…> мы должны начать там, где мы есть.
Ginsberg A. Williams w świecie przedmiotów, przeł. K. Dąbrowska [Уильямс в мире вещей. В пер. К. Домбровской]. Literatura na Świecie. 2009. № 1–2, С. 77. [17]
И хотя все поэтические школы совершенно разные, насколько точной кажется эта характеристика применительно к творчеству пранского поэта! На чем основывается выявляющая сила языковой репрезентации у Касса? Кратко говоря — на сенсуальности образного представления. Автор «Вихрей и снов» видит вещи насквозь (в этом языке, кажется, есть что-то от природы), подмечает то, что в них светится, что для них свойственно и что можно записать словами — он смотрит на предмет без каких бы то ни было ассоциаций, очищает его от налета современной болтологии, концентрируется на образе и назывании. И это поистине немало — все то, что и требуется делать поэту.
3.
Первое предположение: стихотворение Касса — это, несомненно, заметка, свидетельствующая о том, что открытая поэтом — с легкостью перемещающимся по перечню названий — темная материя языка не может быть уложена в поэтическую схему, каркас в упорядоченность поэзии.
Это печать Ничто, клеймо, обнаруженное внутри собственного опыта, неизгладимый дефект речи, обнаженны внезапно в символе не-веры: поэтический язык, которым я владею, несет в себе и искалеченные формы, немые слова. Посему это очень странное стихотворение можно трактовать как сочинение о письме, от которого иногда нужно отказываться. Чтобы оставаться лицом к лицу с молчанием, которое прилегает к речи и без которого было бы невозможно почувствовать уместность слов и названных с их помощью вещей.
Удивительно: запись этой обнаруженной особенности — в самом письме? в языке? в себе? — позволяет прояснить («прошептать близким») собственную поэтику. И все это всего в каких-то пяти условно стихотворных строках!
4.
Признание — часто сделанное как бы случайно — всегда связано с раздвиганием занавеса, который внезапно падает. Признание обнажается. Оно открывает. Я предстаю другим. Меня охватывает немота. «Это есть во мне».
Какое невежество подразумевает Касс, предлагая такое название для записки о стихотворении, которое не могло появиться, и в то же время позволяя увидеть свет этому весьма непосредственному поэтическому признанию?
То, что здесь названо невежеством, напоминает мне комплекс неполноценности, эту присущую поэту черту, парадоксальным образом делающую возможным поэтическое видение и невозможным — его полное выражение.
5.
Этот мотив постоянно присутствует и в текстах Тадеуша Ружевича.
Я часто задавался вопросами: зачем и с какой целью автор «Барельефа» множит описания актов творческого бессилия, неверия в именовательную силу слова, почему так часто употребляет своеобразное, так сказать, поэтическо-риторическое praeteritio (я пишу об отказе от письма, я пишу, что не хочу / не могу / не буду в состоянии писать, но ведь именно это я и делаю; наконец, я пишу, что для процесса познания письмо не требуется)?
Рассмотрим в пандан несколько примеров из Ружевича.
<…>
ведь «сейчас»
ты касаешься пальцами тайны
прямо под твоей рукой
рождается стихотворение
«сейчас» проходит прошло
а сейчас я смотрю
и вижу (в окне) огоньки настурций
в зелени листьев
гаснут в ноябре
<…>
может сейчас и происходит эта перемена
я становлюсь поэтом
вычеркивая слова
<…>
я становлюсь поэтом
когда откладываю перо
смотрю в окно
закрываю глаза
там черные деревья
дождевые тучи
желтеющие листья
птица пролетела
поэт ушел
а я остался
и дописываю эти слова
T. Różewicz. Przypomnienie [Воспоминание]. // Słowo po słowie. Nowy wybór wierszy [Слово за словом. Новая подборка стихотворений]. Wrocław, 1994. С. 238–239. [18]
Это самое «сейчас», нашептываемое каким-то «ты» (кем? — однозначно сказать невозможно) как время записывания, выстраивания стихотворения «проходит прошло»; поэт хочет произвести впечатление — а может, только иллюзию того, что сам по себе акт письма на самом деле не является «прикосновением к тайне», что принципиально важное случилось раньше и случится позже. Сейчас (то сейчас, которое идет без кавычек) «и происходит эта перемена / я становлюсь поэтом / вычеркивая слова / я становлюсь поэтом / когда откладываю перо»; начинается перечисление вещей, их простейшее определение («черные деревья / дождевые тучи / желтеющие листья»).
Поэт-лирический герой произведения явно посылает нам сигнал, что хочет выйти за пределы литературы, письма — к тому, что неуловимо, что лежит за пределами языка. Он должен пользоваться языком, чтобы передать нам оное желание этой своего рода трансцендентности, выхода за пределы слова. Правда, он обречен «остаться» (отсюда и элегический тон «воспоминания», ведь опыт и свидетельствование о нем одновременно невозможны), но тем, к чему он действительно стремится, становится именно это провокационное заявление: можно быть за пределами языка, как вы уже знаете.
я хотел описать
листопад
в южном парке
<…>
лист коснулся земли
я понял
плачущие образа
безмолвие музыки
тайну искалеченной поэзии
когда я вернулся домой
рука начала писать
стихотворение
глухонемое
оно хотело появиться
увидеть свет
но я не хочу его писать
я слышу как оно медленно
перестает дышать
Różewicz T. *** chciałem opisać… [«Я хотел описать...»]. // Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944–1994 [Беспокойство. Подборка стихотворений 1944–1994 годов]. Warszawa, 1995 С. 574–575. [19]
И снова временной разрез и накладывающийся на него когнитивный диссонанс: «в парке» [тогда, когда я хотел, я приблизился к вещам, и поэтому был наиболее предрасположен к познанию] — и «когда я вернулся» [ex post, после того как «рука начала написать»]. Этот образ, вероятно, признание в том, что творческому процессу сопутствуют своего рода автоматизм и инертность, в любом случае, «что-то нежелательное» в представлении самого поэта (ведь он в конце концов решает оборвать, «задушить» письмо). Не будет эпифании post factum, если ее нельзя связать с пониманием, прочувствованием in statu nascendi Таким образом, это стихотворение — скорее свидетельство невозможности записать озарение, сияние, нежели «незавершенная текстуальная эпифания».
В другом сюжете поэт снова пытается «вспомнить / то красивое / ненаписанное / стихотворение / сложившееся ночью / почти созревшее», которое
шло ко дну
таяло в свете дня
не существовало
стихотворение вероятно было
стихотворением о самом себе
как жемчужина
описанием жемчужины
<…>
это гаснущее
в свете дня стихотворение
скрылось в самом себе
только блеснет иногда
Różewicz T. *** (Próbowałem sobie przypomnieć) [«Я пытался вспомнить...»]. // Na powierzchni poematu i w środku [Стихотворение изнутри и снаружи]. Warszawa, 1998. С. 205. [20]
Красивое, ненаписанное, сложившееся ночью... Отметим, что стихотворение здесь полностью противопоставлено действительности, оно появляется в ночи, а при дневном свете тает, гаснет. Это не «обратная сторона бытия», оно может появиться только тогда, когда при отсутствии света восприятие искажается. Зато стихотворение может засиять само по себе, оно красиво, ибо превращается во что-то реальное, в бытие, одновременно не будучи им до конца («почти созревшее»). Это стихотворение — всего лишь предчувствие, проблеск, являющийся человеку внезапно и на мгновение. Оно подобно жемчужине, которая одновременно является самым совершенным описанием жемчужины; поэтому оно должно быть занято своим собственным существованием, как вещь, которую можно познать только через ее собственное проявление, только через тавтологию, которая не терпит чужого, другого языка. Стихотворение красиво тогда, когда оно говорит о себе самом.
Ружевич говорит нам о необязательности записывания, выстраивания стихотворения. Письмо само по себе — лишь производное от более глубокого процесса, который не может быть определен однозначно, но, несомненно, является феноменом из другой области опыта — изведывания поэзии.
<…>
сейчас
я позволяю стихам
убегать от меня
чахнуть, забываться
замирать
никакого движения
в сторону воплощения
Różewicz T. Teraz [Сейчас]. // Niepokój… [Беспокойство...]. С. 585. [21]
6.
Невыразимость в языке философа — всегда акт капитуляции, признание того, что границы языка не удалось расширить за пределы имеющегося опыта. Наступающая тогда тишина становится чаще всего субстанцией поражения, философ «не может, — как писала Ханна Бучинская-Гаревич, — последовательно защищаться <…> от невыразимости», его первичным опытом должно быть «преодоление границ молчания, нахождение способа говорить о доселе невыразимом»
Тишина как знак отказа от объятия реальности, проявляющаяся через жест неверия в возможность дескрипции, навязывает себя в форме своeго рода исключения, выхода за пределы языка и мышления... Поэт, сознательно придающий значимость собственной экспрессии, дезавуирующий когнитивную силу поэтического высказывания, сперва вызывает у читателя чувство беспокойства, ибо такого рода письмо обычно становится инцидентом, задевающим самые элементарные ожидания: потребности в гармонии, смысле, красоте.
При этом поэт, признающийся в неспособности называния, выявляет границы выразительности. Но Войцеху Кассу удается и кое-что еще. Говоря о несуществующем стихотворении (точнее, о таком, которое не могло появиться), он создает — per negatio — собственный трактат о точности поэтического высказывания. О том, чем же должно являться стихотворение, чтобы оно было написано, увидело свет.
Иными словами, похоже, автор «Вихрей и снов» противоречит убеждениям Ружевича, что поэзия случается за пределами (до и после) языка.
7.
Итак, трактат. Своеобразный. Оперирующий инверсией. Предстввляющий собой, казалось бы, всего лишь «печать невежды». Мне очень импонирует самоирония в стихотворениях Касса, ибо этоговорит о метасознании автора. О том, что поэт отдает себе отчет: поэтическое слово спасает, но не избавляет. Оно создает ценности, но не навязывает их. Понятно, что стихотворение служит показателем чуткости и ви́дения, но оно не может безоговорочно обязывать. Это фирменный знак, подпись автора. Она подтверждает eго творческий образ, созданный перед читателем.
Свой поэтический опыт Войцех Касс заключает в строгие рамки. То стихотворение было, читаем:
1) «Слишком слабым, чтобы выжить». Письмо как акт упорядочивания и называния мира обязательно связана с уверенностью, которая безоговорочно должна проистекать из текста, становящегося свидетельством неповторимого ви́дения реальности. Следовательно, поэтическая запись должна легитимизироваться «силой» — способностью ничем не невозмутимого выражения.
2) «Чтобы мне захотелось его записать».
Поэтический текст никогда не будет фиксацией чистого, словно запечатенного объективом камеры, ви́дения. За текстом стоит — и прочитывается из текста — четко очерченная фигура поэтического «я». Уверенного в том, где находятся границы его мира. Отделяющего свет от тьмы. Того, чье субъективное желание писать — наиважнейший источник поэзии.
3) «Прочитать его вслух, прочитать много раз». Стихотворение должно прозвучать. Оно рождается в тишине. И нарушает тишину. Оно питается повторением. Отсюда его назывательная сила. Стихотворение отшлифовывает\сглаживает бытие. Многократно прочитанное, оно начинает сосуществовать с миром, таким образом рассматриваемым и называемым. Повторенное — отрекается, воскрешает, фиксирует то, что немо. То, что без него — без слова — не возникло бы. Повторенное вслух позволяет подтвердить обретенную однажды ценность, задает тон, в котором мир проявляется для нашего диалога — «как у нас говорят в ближнем кругу». Мы допущены до свого рода communio. Задушевного разговора, во время которого раскрываемся и протягиваем руку. Учимся слушать шепот письма.
4) «Вычеркнуть немые и глухие слова / подпорки для фасоли, как у нас говорят в ближнем кругу».
Искусство письма — это искусство вычеркивания. Экзальтация нема. Слово — никогда. Оно не может только поддерживать вещи, быть «подпоркой». Оно должно обнаруживать вещь. Осознавать ее. Давать возможность поднести ее к губам. Во время прогулки. И по возвращении домой.
Права на текст приобретены в рамках программы «Tarcza dla Literatów» («Щит для литераторов»).