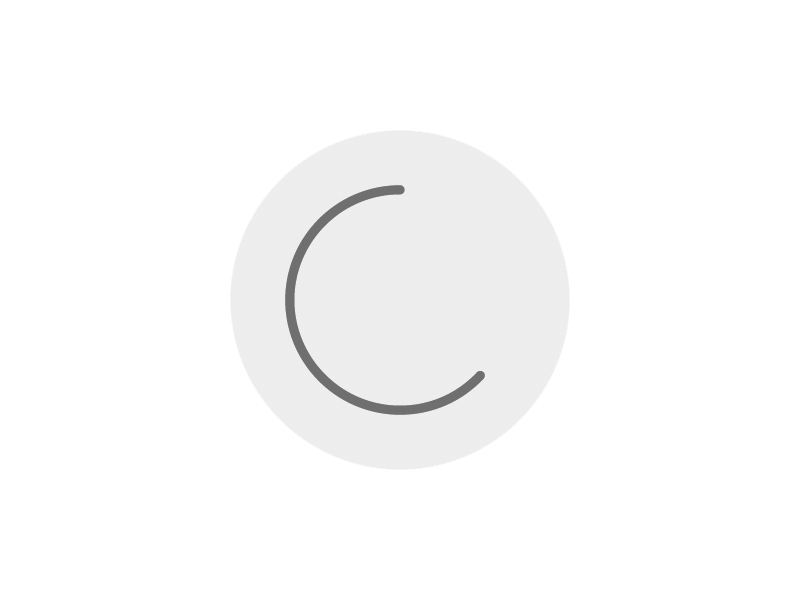Вдохновение к букве жизни и букве слова
1.
Когда стихотворение рождается естественно, оно пишется как бы сразу со всех сторон, так, что каждый из его языковых, эмоциональных, грамматических, метафизических, семантических и интеллектуальных элементов укладывается в текст без каких-либо препятствий и, находясь в гармонии с остальными, образует живой организм, полностью оправдывающий свое предназначение. Однако, если стихотворение пишется вынужденно — под влиянием амбиций или желания продемонстрировать свое «я», либо же по конъюнктурным или социальным соображениям, — горе такому стихотворению: ни один элемент не окажется там на своем месте и в согласии с окружающими. Едва дышащему, ему суждено пасть, прежде чем оно усвоит этот урок судьбы.
2.
По каким приметам мы узнаем поэта, терпеливо и последовательно наращивающего мастерство, совершенствующего языковое выражение ишаг за шагом работающего над развитием духовности? Все просто: по его лагерю. Каждая книга — это новый походный лагерь; лагерь, разбитый каждый раз по-разному — из того же самого материала (слóва), но выглядящий при этом иначе. В каждом лагере свой наблюдательный пункт и открывающиеся с него панорамы, иное положение тела и души, разные степени познания и разные точки зрения на мир. По этим лагерям мы узнаем, какой дорогой прошел автор и какой ведет нас сейчас. Некоторые из мест, встречающихся нам по пути, до сих пор — благодаря силе энергии языка — хранят следы его присутствия: недогоревшие и все еще теплые головешки, посох, сломавшийся, когда поэт решил двинуться дальше, оборванный шнурок, ржавую банку из-под шпрот. И так по пути автор разбивает лагерь за лагерем, имя которым опыт и познание, и никогда ни к чему не привязывается слишком сильно — ни к самому лагерю, ни к языку, из которого он построен, ибо каждый из этих лагерей — только этап бесконечного внешне-внутреннего, поту- и посюстророннего путешествия по ландшафту бытийного и мистического путешествия через полноту Реальности. Зна́ком одной из последних стоянок должно стать примирение и прощение, обретение покоя и истолкование — так уж повелось, что прощение и толкование — лагеря самые далекие, дальше человек идти уже не может. Что можно еще добавить? Есть поэты-авторы множества книг. Но когда листаешь эти книги, часто складывается впечатление, что их авторы застряли в одном лагере; вроде в нем что-то и меняется, но что? Немного другой строительный материал, какая-то иная форма, цвет, запах, какая-то перестановка предметов, слов — и на этом всё. В сущности, это один и тот же лагерь, где поэт ходит вокруг да около и грызет ногти, как и подавляющее большинство из нас.
3.
Неопрятность языка как программа? Болтология как манифест? Писатель начинается там, где начинается работа над языком, над его ингридиентами, речевыми эрзацами. Писатель возносит языки и тем самым — достойность жизни. Бялошевский, за исключением первых двух книг, для меня неудобоварим, аутентизм обрывков и шумов языка меня совсем не убеждает. Подражать Бялошевскому невозможно, эти попытки заканчиваются графоманией. По другим причинам невозможно писать, как Ружевич и Галчинский (которым, как ни удивительно, Бялошевский восхищался). Их поэтика принадлежит только им, и попытки — даже не столько придеживаться ее, сколько eй подражать — ведут на скользкую дорожку графомании.
Я ищу сравнение или образ, чтобы описать тот мощный импульс, которым является экстаз, этот ураган Орфея, направляемый медиумом в свой рожок, свирель или колокольчик. Ведь этот импульс — не праздная запись стихотворения в круговороте привычной работы над текстами, в большинстве своем слишком надуманными или вынужденными, рождающимися не столько из любовных объятий с логосом, сколько из малопродуктивного воинственного насилия над его духовной телесностью; о, этот языковой импульс так же силен, как стихия, которая вырывает плохо укоренившуюся и незрелую поэтическую флору, не осознавшую своих возможностей, темных и бездонных глубин своих корней, которые ей надо было осмыслить, освоить, обработать и объять.
Тут мне подает руку Шандор Мараи, непогрешимый в своей правоте: в своем «Дневнике» он, сравнивая творческий акт с землетрясением, с образованием гор, озер или каньонов, ассоциирует священный импульс экстатического вдохновения с событием генезисным, несущим готовый исходный материал для тектонического творения.
Что, прямо вот так? Поэт — родящая и сотрясаемая рождением земля? Земля творящая и тем самым преображающая, обновляющая рельеф своей коры и ископаемых? А его стихотворение — тектоника лингвистической материи, задающая языку новые семантические поля, изменяющие его картографию? Языку, знаки которого можно сравнить с геологическими рубцами, вулканическими бороздами, а их музыку — с течениями и водоносными жилами?
Поэты ближе к геологии (мир непредвиденных и непредсказуемых иррациональных поступков); версификаторы — к геодезии (мир мер и весов, норм и границ).
Подытожим: может ли поэзия быть лингвистическим указателем новой земли? Или счастливого острова (что, впрочем, звучит излишне сентиментально)? Способна ли она преобразовывать «внутреннего человека», который есть в каждом из нас? Возвышать его над уровнем эгоистических инстинктов до уровня, в котором добро — высшая форма свободы? Я бы не стал заходить так далеко. Род человеческий, как и отдельных его представителей, «не спасти»; цель поэзии и всей литературы, цель духа, который, подобно лучу, преломляется в человеке и таким образом становится понятным, в том, чтобы поддерживать в их душах очаги постоянного осознания такой задачи.
В притче «Что такое поэзия» Кшиштоф Рутковский, размышляя о судьбе Артюра Рембо, написал следующую фразу: «Так скажем же себе: поэзия — это лелеяние \\ рачение». Если ты не примешь эту заповедь в сердце — даже ты, тянущийся к перу, чтобы вычеркнуть саркастическую строку, а за ней и вторую — строку ненависти, и третью, с запахом серы, и четвертую — обесценивающую, и пятую — ласкающую твое — ах! — бедное эго, и тут же шестую, которая уже начинает разлагаться от метастазов, — если ты не запомнишь эту истину, ты сгинешь, погрязший в похмелье своих больных амбиций, униженный собственной горечью, с черной желчью на устах.
Стихотворные строки — это кораблики. Зачем пускать кораблики, которые сразу тонут?
4.
Человек — не только биологический организм. Он относится к существам, наделенным «излишками», происхождение которых еще не изучено. Возможно, они появляются благодаря какому-то тайному дыханию, вдоху, недоступному ни научному, ни обыденному, ни прагматическому познанию. На мой взгляд, поэзия способна поставить нас на порог «невидимого» и «непознаваемого». Вот почему Адриан Глень в своей последней книге «Критика и метафизика» (серия «Библиотека критики / Библиотека топоса», 2017) пишет о поэзии как о «метафизической задаче», выходящей далеко за пределы понимания ее как «инженерии словесных знаков», «биологического и бихевиорального организма слов».
Поэзия — это нечто большее, чем просто язык, это намагниченные опилки Тайны в расселинах Семантики, тоска лингвистического творения по пространству, полнота (бытия?), становящаяся единством внешнего и внутреннего. Один из глубоких корней поэзии уходит в обрядовость, в том числе в погребальные обряды, в которые вовлекались целые группы участников, певцов, помощников, статистов. Она была и остается погруженной в смерть и в то же время является попыткой ее преодолеть, а стало быть, нонсенсом. Малларме, писавший, что поэт — человек древний, имел в виду, помимо прочего, homo ritualis. Если бы изобретение поэзии произошло в нашу пронаучно и прагматически настроенную эпоху, оно было бы воспринято как совершенно излишнее, поскольку ритуальная функция из поэзии испаряется или же захватывается рынком как товар, услуга.
5.
Строфа/катастрофа; я предпочитаю поэтов катастроф поэтам строф. Ибо первые разрушают строфу — как данность, как готовое творение, — для того чтобы потом собрать ее вроде бы так же, но на самом деле иначе. И делают это совершенно осознанно, потому что им слишком тесно в воздвигнутом творении, полученном, изученном и превратившемся в банальность, — и они стремятся немного приукрасить его на свой лад, так, чтобы это соответствовало их восприятию мира и неустанным попыткам его познать. В известном смысле слова, поэт говорит так: строфа не моя, но катастрофа моя, хотя бы потому, что она встроена в жизнь каждого человека. Некоторые думают, что у них все под контролем, и ничего плохого с ними случиться не может, поэтому, когда внезапно наступает катастрофа, они вопрошают: как это могло произойти? Где была допущена ошибка? Другие — их меньше — пытаются взять этот вес, взвалить его на себя, подстроиться под него. А когда выходят из катастрофы, они становятся кем-то другим, и этот кто-то другой проявляется как улучшенная, углубленная версия самого себя. Строфа и катастрофа переплетаются, как буква поэзии переплетается с буквой существования, как существующий жизненный уклад перекликается с тем путем, который каждый должен пройти самостоятельно. Катастрофа — это тоже строфа, только во время каталептического припадка; строфа после катаракты, строфа, являющаяся из руин строфы. Перефразируя известные строки Рильке из «Элегии восьмой», союз строфы и катастрофы можно было бы представить так: мы упорядочиваем строфу (жизнь). Но она распадается (катастрофа). Мы снова собираем строфу воедино (жизнь). И распадаемся сами (катастрофа). Взгляните на поэта во время письма. Возможно, вы увидите, как какая-то из стихотворных строк начинает тонуть в катастрофе. В свою очередь, катастрофа — это будущее строфы, только твоей и ничьей другой — за которой, возможно, чувствуется перо кого-то из великих мужей поэзии.
6.
«Творческое чудо» в виде стихотворения, поэмы или другого произведения искусства случается лишь раз в истории, и оно неповторимо. Трудно ожидать его воспроизведения, его дальнейшего умножения. При этом оно задает горизонты, как духовные, так и языковые, к которым будут стремиться, — к сожалению, приукрашивая и формализируя феномен чудесности. Поэт идет первым, а те, кто следует за его фразой, рождающейся от «вслушивания в тайны», невольно попадают под подозрение, нравится им это или нет, и образуют своего рода гильдию, где, благодаря всеобщему признанию, приобретают статус выдающихся мастеров, хотя на их поэтические «шедевры» падает тень вторичности и ремесленничества. Да, мастерство принадлежит прошлому. Необходимо извлекать его и перерабатывать.
Не стоит продолжать подражание.
Как писал Осип Мандельштам, «не сравнивай: живущий несравним». Так что будем оставаться живыми до последнего знака. До точки.