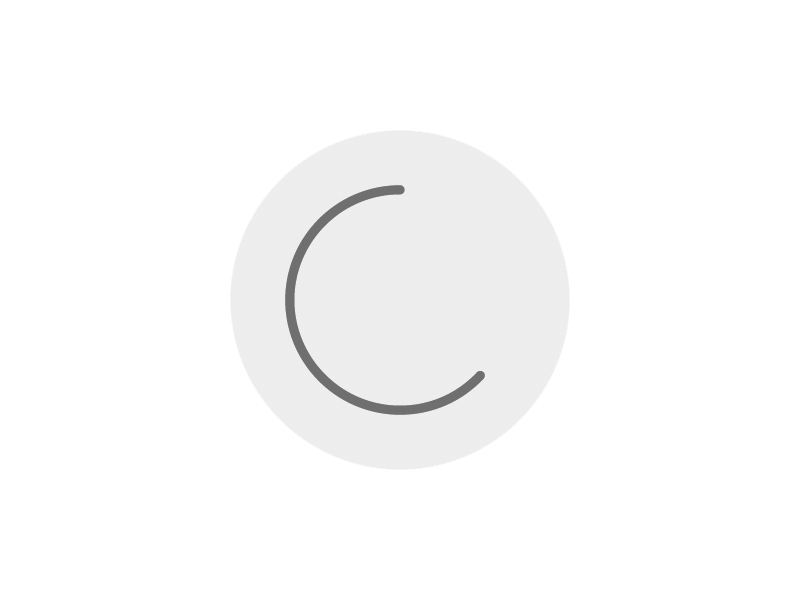Русские идеи и войска. Русская мысль в понимании Исайи Берлина
Книга Исайи Берлина «Русские мыслители» состоит из десяти замечательных эссе об известных и некогда влиятельных представителях левого крыла русской интеллигенции XIX века: Александре Герцене, Иване Тургеневе, Виссарионе Белинском, Михаиле Бакунине, Петре Лаврове, Михайловском и Льве Толстом. Есть в ней и тексты более общего характера: «Россия и 1848 год», «Герцен и Бакунин о свободе личности», рассказы о народниках и проблемах либерализма в России (на примере духовных перипетий Тургенева). Русские идеи середины XIX века, изложенные британским либералом, не теряют своей актуальности и в Европе начала нашего, XXI столетия
Лисица, которая хотела быть ежом
Хотя у Толстого было очень мало общего с близким сердцу Берлина либеральным идейным течением, он был любимым русским писателем сэра Исайи. Эссе о Толстом, озаглавленное «Ёж и лисица», — одно из лучших в сборнике. В начало текста Берлин вынес цитату из греческого поэта Архилоха: «Лис знает много секретов, а ёж один, но самый главный»
Любопытен берлиновский список «ежей» и «лисиц». В первую категорию философ включил Данте, Платона, Лукреция, Паскаля, Гегеля, Достоевского, Ницше, Ибсена и Пруста (все они «ежи» в разной степени). Ко второй, «лисьей» категории отнесены Геродот, Аристотель, Монтень, Эразм Роттердамский, Мольер, Гете, Бальзак, Джойс и Пушкин (последний даже назван «величайшей лисицей XIX столетия»)
примат личного опыта, и личных отношений, и личных доблестей предполагает то самое виденье жизни с присущим ему чувством личной ответственности, с верой в свободу и возможность спонтанного поступка, которому посвящены лучшие страницы романа.
Там же. С. 213. [5]
Конкретность и многоцветность жизни находятся в явном противоречии с туманными рассуждениями социологов и историков. Так в глубине души считал Толстой, хотя, увы, и он не избежал влияния бесчеловечных схем.
В «Русских мыслителях» ясность метода (согласно которому ценность мировоззрения определяется качеством заключенного в нем либерализма) сочетается с красотой формы. В каждой фразе и замечании сквозит глубокое понимание России и русской мысли, но, когда нужно, раздаются и слова суровой критики. В мире идей России Берлин чувствует себя как дома. Он спорит с ее мыслителями как со своими современниками, испытывая при этом отвращение к политическому пространству бывшей империи, к деспотам и тупым чиновникам. С таким же пониманием и критичностью относится он и к европейской философии XIX века — старшему брату всей русской мысли позапрошлого столетия.
В доказательство приведем целиком фрагмент, касающийся «тайн» Гегеля и Шеллинга:
Нелегко читать труды ранних немецких романтических мыслителей: Гердера, Фихте, Шеллинга, Фридриха Шлегеля и их последователей. Трактаты Шеллинга, некогда вызывавшие всеобщее восхищение, подобны темному лесу, в который я не советую углубляться — vestigia terrent (следы пугают): слишком много искателей забрело туда, чтобы уже никогда не вернуться. Трудно, однако, понять искусство и мысль того периода — не только в Германии, но и в Восточной Европе и России, которые де-факто были немецкой интеллектуальной провинцией, — не принимая во внимание совершенного этими метафизиками (особенно Шеллингом) глубокого перелома в мышлении: от механистических концепций XVIII века к интерпретации в эстетических и биологических категориях.
Berlin I. Niemiecki romantyzm w Moskwie i Petersburgu // Berlin I. Rosyjscy myśliciele. S. 142–143. В русском издании этого текста нет. [6]
Подобные замечания особенно ценны в той части книги, где Берлин пишет о столкновении в Европе мятежного романтизма с мещанским прагматизмом.
Противоядие против детерминизма
Послесловие к книге «Русские мыслители» написал польский философ и знаток русской философской и общественной мысли Анджей Валицкий. Он познакомился с Исайей Берлином в оксфордском колледже All Souls в начале 1960 года, а затем систематически изучал его труды. В своем послесловии он ясно и доступно описывает либерализм Берлина. Средоточие его мировоззрения — это апология так называемой негативной свободы («свободы от»), которая при справедливом общественном устройстве должна царить безраздельно — по крайней мере в сфере человеческой приватности. Название не должно вводить читателя в заблуждение: «свобода от» по Берлину — это, в сущности, единственная свобода. В его концепции личность чувствует себя свободной не только от принуждения, но и вообще от какого бы то ни было вмешательства извне. Однако похвала «свободе от» не сочеталась у него с оправданием вседозволенности в экономической сфере (лессеферизмом). Наоборот, британский мыслитель был убежден, что современное государство второй половины XX века должно вмешиваться в экономику (хотя и разумно, в весьма ограниченной степени).
Анджей Валицкий пишет:
Его позиция по вопросу о негативной свободе не означала требования невмешательства государства в дела рынка. <...> Берлиновская критика позитивной свободы не была направлена против социальных программ, призванных обеспечить индивидуумов материальными средствами, чтобы они могли пользоваться свободой; она лишь противилась государственному патернализму.
Walicki A. Isaiah Berlin i dziewiętnastowieczni myśliciele rosyjscy // Berlin I. Rosyjscy myśliciele. S. 320. [7]
Польский историк общественной мысли прекрасно показал также политический контекст написанных в 1948–1973 гг., то есть частично в сталинский период, берлиновских эссе о русских мыслителях XIX века. Размышления о Белинском и Герцене, которые «отважились выступить против гегелевской исторической необходимости, не признавая ее санкцией нравственного зла», были протестом самого Берлина против оправдания сталинизма как «исторической необходимости»
Валицкий пишет об этом так:
Благодаря «Слепящей тьме» Кестлера уже нельзя было прикидываться ничего не знающими об ужасах большой чистки, однако можно было — как это сделал выдающийся феноменолог Морис Мерло-Понти в книге «Гуманизм и террор» (1947)
Merleau-Ponty M. Humanisme et terreur. Essai sur le probleme communiste. Paris: Gallimard, 1947. [9] — оправдывать эти преступления высшей необходимостью, открытой и обоснованной марксизмом — единственной философией, позволяющей сохранить веру в смысл истории.Walicki A. Op. cit. S. 336. [10]
В свою очередь в Англии считали, что хотя «закон исторической необходимости» и не действует на берегах Темзы, но для описания восточноевропейских реалий им можно пользоваться. Таково зеркальное отражение хода мысли царского цензора, который весной 1872 года разрешил опубликовать в России первый том «Капитала». Ему казалось, что кошмарная действительность, описанная в трактате Маркса, существует только в Западной Европе. Сегодня «русские» эссе Берлина можно рассматривать в качестве противоядия как от детерминистического гегельянства Мерло-Понти и Сартра, так и от политического расизма Бертрана Рассела
Русская армия в Европе
Особого внимания заслуживает синтетическое эссе «Замечательное десятилетие», в первой части повествующее о зарождении русской интеллигенции. Берлин считает, что это произошло после победной войны России с Наполеоном. Именно тогда в умах русских офицеров, впоследствии декабристов, впервые появилось чувство национального достоинства. К счастью, ему сопутствовала ответственность за ужасающее положение внутри империи. Берлин пишет:
Для истории идей в России победа над Наполеоном и вступление в Париж — события не меньшей жизненной важности, чем реформы Петра. Они породили у русских сознание национального единства, самоощущение великой европейской страны, признанной в этом качестве и другими; теперь они больше не скопление варваров, отгороженных от мира китайской стеной <…>. А за ростом патриотически окрашенных национальных чувств последовал и неизбежный рост чувства ответственности за хаос, убожество, нищету, бесплодие, грубость и ужасающий беспорядок российской жизни.
Берлин И. Рождение русской интеллигенции / Пер. с англ. Б. Дубина // Берлин И. История свободы. Россия. С. 13; Berlin I. Narodziny rosyjskiej inteligencji // Berlin I. Rosyjscy myśliciele. S. 125. [12]
Следующей вехой стал для России 1825 год. После подавления восстания декабристов самодержавный деспот Николай I решил, что он — монарх, поставленный Провидением для борьбы с атеизмом, либерализмом и революцией. Когда в 1848 году в Берлине вспыхнуло народное восстание, царь заявил, что не впустит чуму в Российскую империю. В эссе «Россия и 1848 год» Берлин рассказывает, как Николай в 1849 году послал в охваченную революцией Венгрию армию Паскевича:
Русская армия под командованием Паскевича задушила венгерскую революцию. Российское влияние сыграло решающую роль в расправе с революцией и в других провинциях Австрийской империи и Пруссии. Могущество России в Европе, а также ужас и ненависть, которые она порождала в сердцах заграничных либералов и конституционалистов, достигли предела. В этот период Россия была для демократов приблизительно тем, чем в наши дни стали фашистские державы, — врагом номер один свободы и просвещения, средоточием невежества и гнета, страной, чаще и резче всего осуждаемой ее собственными сынами, живущими в изгнании.
Idem. Rosja i rok 1848 // Ibid. S. 10–11. В русском издании этого текста нет. [13]
Подобные справедливые утверждения Берлина значительно ослабляют тезис об отсутствии всякой связи между имперской политикой царей и агрессивным деспотизмом большевистского периода. К сожалению, история любит повторяться (особенно в своем имперском варианте). Сегодня военную интервенцию Николая I в 1849 году можно рассматривать как первую попытку расправы имперской России со свободной Венгрией. Не повторилось ли то же самое в 1956 году? Армия Хрущева продолжила в Будапеште тот процесс, начало которому положил в России и Европе император Николай I. Царь делал это во имя Бога и престола, партийный генсек — во имя атеизма и революции.
Бакунин и Сикстинская Мадонна
Один из главных отрицательных персонажей «Русских мыслителей» — Михаил Бакунин (1814–1876), «Ставрогин в обличье Рудина»
Впрочем, Исайя Берлин умеет и восхищаться — например, ораторскими способностями Бакунина, который мог сделать пламенным революционером даже осла:
В Москве он охотно превращал спокойных студентов в дервишей, экстатических искателей эстетической и метафизической цели. В дальнейшем он применял свой талант в еще более широком масштабе, работая с наименее перспективным человеческим материалом — швейцарскими часовщиками и немецкими крестьянами, которых он заразил невероятным энтузиазмом. Ни до, ни после него никому не удавалось извлечь из них что-либо подобное.
Idem. Niemiecki romantyzm w Moskwie i Petersburgu // Idem. Rosyjscy myśliciele. С. 151. В русском издании этого текста нет. [16]
Следует добавить, что Бакунин был не только теоретиком революции, но и почти профессиональным революционером. Правда, иногда ему приходили в голову довольно нелепые идеи. Одну из них описывает Герцен в «Былом и думах»: в мае 1849 года во время осады Дрездена Бакунин («бывший артиллерийский офицер») посоветовал взявшимся за оружие профессорам, музыкантам и фармацевтам выставить на городские стены Сикстинскую Мадонну Рафаэля и картины Мурильо. Тогда пруссаки, воспитанные в классическом духе («zu klassisch gebildet»), не будут стрелять
Мыслители присутствующие и отвергнутые
Этико-полемическое острие книги Берлина направлено против всякой «исторической необходимости», как правило, заводящей на Соловки или Колыму. Автор был убежден, что потенциальным источником вдохновения диктаторов может быть не только гегельянство, но и католическая philosophia perennis (вечная философия). Как пишет в послесловии Валицкий, Берлин обвиняет обе идеологии в «универсалистском абсолютизме» (противоположном «плюрализму ценностей») и склонности к установлению «единого господствующего критерия общественных действий»
Допустимо и даже необходимо ограничивать свободу личности во имя других ценностей, таких как справедливость, равенство, счастье, безопасность, общественный порядок. Однако эти ценности всегда надо называть, а не маскировать ограничение свободы ссылками на высшую позитивную свободу.
Ibid. S. 319. [19]
Представляя в своем авторском изложении идеи Белинского и Герцена, Берлин подчеркивает основные либеральные элементы их мировоззрения. В трудах позднего Белинского и Герцена после 1848 года такие элементы действительно встречаются, хотя ни один из этих мыслителей отнюдь не был таким певцом свободы и персонализма, какими хотел бы видеть их Берлин. В то же время британский ученый не побоялся с симпатией отозваться о «робеспьерстве» молодого Белинского, а также (что уже вызывает у меня бурный протест) выразил восхищение террористическими методами народников, прославившихся, в частности, тем, что в 1881 году они убили царя-реформатора Александра II. В результате в России наступил период реакции, завершившийся большевистской революцией — лекарством похуже самой болезни.
Любопытно, что эта завороженность Берлина народничеством коренится в его довольно своеобразном (только в этом случае) методе актуализации идей. Чтобы объяснить это явление, Валицкий вспоминает свои встречи с Берлином в середине 60-х:
Я запомнил, как он живо реагировал на рассказ одного из своих докторантов, бывшего участника еврейского движения сопротивления на британской мандатной территории в Палестине, об огромном впечатлении, которое произвел на него русский перевод «Пламени» Станислава Бжозовского — романа о героических террористах-народовольцах.
Ibid. S. 326. [20]
А что было бы, если бы потом Берлин услышал, что на героические террористические традиции Желябова и Перовской ссылается какой-нибудь палестинский террорист, получивший образование в брежневском СССР?
Бросается в глаза недоверие исследователя к любой (не только русской) религиозной философии. Неужели все, что связано с fides (верой), было только элементом тоталитарной philosophia perennis? Либерал и агностик Валицкий придерживается иного мнения:
Что касается этой проблемы, то тут наши взгляды расходились. К сожалению, отношение Берлина к религиозным мыслителям доказывало, что в этой области его способность проникнуться взглядами другого весьма ограничена. Впрочем, он сам называл себя человеком «безнадежно мирским» и признавал, что у него нет «понимания» к мистическому богословию в стиле Владимира Соловьева.
Ibid. S. 351–352. [21]
Добавим, что такую же неспособность проникнуться взглядами другого Берлин продемонстрировал, когда назвал Достоевского «ежом». Каждый, кто знает драматические сюжеты романов Достоевского и кому хоть раз удалось вчувствоваться в судьбы его героев («отрицательные» персонажи часто отстаивают мнения «положительных», и наоборот), может согласиться: «Достоевский — это ночная лисица, которая днем хотела быть ежом». Однако Берлин, по его собственному признанию, никогда не искал ответа на «извечные вопросы», которые так волновали Достоевского. Ему было достаточно «посюсторонних проблем» Тургенева.
Последнее эссе об авторе «Отцов и детей» кажется мне самым ценным во всем сборнике. Описательный метод тесно соединился в нем с предметом: наконец-то читатель видит не только красоту стиля и способность проникнуться взглядами другого, но и adaequatio intellectus et rei («соответствие вещи и интеллекта»). В России Тургенева как мыслителя центристского отвергли и революционные левые, и реакционные правые. Слева его не любили Добролюбов и Чернышевский, справа — Катков и Достоевский. Берлин считает, что «сегодня» сочинения Тургенева должен знать каждый, кто хочет понять прошлое и настоящее России:
Если внутренняя жизнь людей, их идеи, их моральные затруднения значат что-либо при объяснении истории, то романы Тургенева, независимо от их литературных достоинств, — также помогают понять прошлое России и наше собственное настоящее, как помогают пьесы Аристофана понять классические Афины, а письма Цицерона или романы Диккенса и Джорджа Элиота — понять Рим и викторианскую Англию.
Берлин И. Отцы и дети. Тургенев и затруднения либералов / Пер. с англ. Г. Дурново // Берлин И. История свободы. Россия. С. 179; Berlin I. Ojcowie i dzieci. Turgieniew i kłopoty liberalizmu // Berlin I. Rosyjscy myśliciele. S. 313. [22]
Чтобы произнести такие слова, нужно обладать огромной интеллектуальной смелостью, эстетическим вкусом и в то же время глубоко понимать Россию и желать ей счастья в добрых начинаниях.