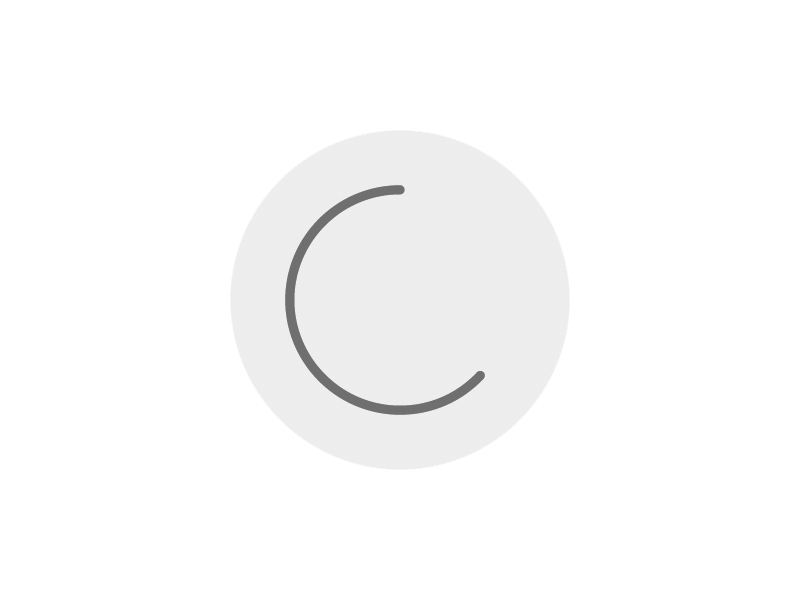Каменщики и могильщики империи. О книге Эвы Томпсон «Трубадуры империи. Русская литература и колониализм»
Чаадаев, Пушкин, Мандельштам
Известный русский мыслитель П.Я. Чаадаев в 1837 году сформулировал весьма интересный тезис о том, что на протяжении столетий главная проблема России — «факт географический». По его мнению, это «существенный элемент нашего политического величия и истинная причина нашего умственного бессилия»
Начал он с утверждения, что государство, ставшее впоследствии «обширной русской империей», сформировалось еще в царствование Ярослава Мудрого (XI век) и включало пространство между Финским заливом на севере и Черным морем на юге, Волгой на востоке и левым берегом Немана на западе. Так чего же поляки домогаются от русских, спрашивал Чаадаев в 1831 году, если еще в XI веке пограничная линия между ними выглядела так же, как и «в наши дни»? «Россия» еще в те времена опиралась на польские города: Августов, Седльце, Люблин, Ярослав, а вдоль Сана доходила до подножья Карпат:
Это та самая линия, которая и в наши дни по сути дела размежевывает обе народности — русскую и польскую. Население к востоку от этой линии говорит на русском наречии и принадлежит к греческой Церкви, население на запад от нее говорит по-польски и принадлежит к римскому исповеданию.
Там же. С. 512. [3]
Во-вторых, говорит российский философ, углубляясь в историю ягеллонской Речи Посполитой, польское государство «состояло из нескольких народностей, из них русские в областях, носивших название Белоруссии и Малороссии, составляли главную часть». Из дальнейших рассуждений Чаадаева явно следует, что «русскими» он считал не только белорусов и украинцев, но и православных литовцев. Он ведь писал, что «русское население» объединилось с поляками лишь «на условии пользования всеми национальными привилегиями и свободой». Речь Посполитая лишь в самом начале выполняла свои обязательства в отношении «русских», однако вскоре стала подвергать их как политическим, так и религиозным преследованиям — в результате этого «русские области отделились от республики и соединились с семьей славянских народов, которая приняла имя Всероссийской империи». Отсюда Чаадаев и делает следующий вывод:
Это отделение, начавшееся с 1651 года и закончившееся к концу XVIII века, было неизбежным следствием ошибок притеснительного правительства, нетерпимости римского духовенства и вполне естественной тяги этой части русского народа свергнуть иго иноземцев и вернуться в лоно собственной народности.
Там же. С. 513. [4]
Таким образом, в глазах Чаадаева и восстание Богдана Хмельницкого, завершившееся включением левобережной Украины и Киева в состав России в 1654 году, и три раздела Речи Посполитой в 1772–1795 гг., в результате которых Российская империя расширилась за счет правобережной Украины (Волынь и Подолия), Белоруссии и Литвы, были лишь очередными этапами возвращения в лоно отчизны «белорусских и малороссийских русских». Да и славянская Польша, как хотелось думать Чаадаеву, только выиграла от связи с Россией, ибо те земли, которые попали под господство Австрии и Пруссии, были очень скоро онемечены
Итак, между Польшей и Россией нет места никакому иному народу. Такое мнение Чаадаева полностью совпадало с духом его эпохи, как и тезис о том, что поляки-славяне должны неизменно находиться в государственном союзе с Россией. В 1831 году Чаадаев признавался в письме Пушкину, что не устает изумляться его стихотворениям, осуждающим «врагов России»
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
Это строфа из стихотворения «Бородинская годовщина» (1831), где Пушкин еще выражал странную тревогу, что восстание поляков и их война против России могут быть причиной, как это уже было в 1812 году, вооруженного нашествия всей Европы на Москву. Стихотворение, кстати, начинается так: «Великий день Бородина / Мы братской тризной поминая, / Твердили: Шли же племена, / Бедой России угрожая; / Не вся ль Европа тут была? / А чья звезда ее вела! / Но стали ж мы пятою твердой / И грудью приняли напор / Племен, послушных воле гордой, / И равен был неравный спор» (Там же. С. 304). Подобную тревогу, то есть страх перед иностранной интервенцией в России, поэт выражал в том же 1831 году в стихотворении о Кутузове («Перед гробницею святой…») и уже открыто — в письме к Бенкендорфу, написанном около 21 июля 1831 года: «Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны» (Он же. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: АН СССР, 1937–1959. Т. 14: Переписка. С. 183). Здесь Пушкин имел в виду депутатов французской палаты и журналистов Франции, которые поддерживали польских повстанцев и публично призывали к вооруженному вмешательству Европы в польско-русскую войну. Однако поэт напрасно боялся Европы, которая после 1815 года соблюдала консервативный политический порядок, установленный на Венском конгрессе («Священный союз» Австрии, Пруссии и России). И даже Папа римский Григорий XVI 28 мая (9 июня) 1832 года обнародовал энциклику «Cum primum», где резко осудил польское восстание. [8]
Наступил август 1914 года. Польские легионы Юзефа Пилсудского при скромной поддержке Австрии начали бороться за независимость Польши, а из России через несколько месяцев отозвался очередной ее поэт — родившийся в Варшаве Осип Мандельштам. В стихотворении «Polacy!» он призывал поляков, чтобы в Первой мировой войне они вместе с русскими славянами выступили против габсбургского ворона:
Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков!
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?
Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало ушибаться Польше?
И ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом,
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!
Мандельштам О.Э. Собр. соч.: в 4 т. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Т. 1: Стихотворения. М.: Терра—Terra, 1991. С. 136. [9]
Стихотворение было написано в октябре 1914 года, а уже 1 (14) августа того года главнокомандующий армией Российской империи в Первую мировую войну (1914–1915) великий князь Николай Николаевич младший (1856–1919) обнародовал манифест к полякам-славянам, призывая их к совместной борьбе против немцев:
Поляки! пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения Польского народа, братского примирения его с Великой Россией!
Русские войска несут вам благую весть этого примирения.
Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром РУССКОГО ЦАРЯ. Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, в языке и самоуправлении.
Одного ждет от вас Россия: такого же уважения к правам тех национальностей, с которыми связала вас история!
С открытым сердцем, с братски протянутой рукой идет к вам навстречу Великая Россия. Она верит, что не заржавел меч, разивший врага при Грюнвальде.
От берегов Тихого океана до Северных морей движутся русские рати. Заря новой жизни занимается для вас.
Да воссияет в этой заре знамение креста, символа страдания и воскресения народов.
Верховный Главнокомандующий
Генерал-Адъютант НИКОЛАЙ. С.-Петербург 1 августа 1914 года.
«Воззвание Верховного Главнокомандующего, Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича Романова к полякам» было опубликовано по-русски и по-польски в газетах всей Российской империи, в том числе и в Царстве Польском. Документ распространялся также в форме отдельных объявлений, параллельно с русским и польским текстами обращения. Я привожу полный текст воззвания по одному из таких документов. [10]
Трубадуры империи
Эва Томпсон, автор книги «Трубадуры империи. Русская литература и колониализм»
Томпсон пишет о Н.М. Карамзине, авторе фундаментальной двенадцатитомной «Истории Государства Российского» (1816–1829), «первом русском интеллигенте, который возложил весь свой незаурядный талант на алтарь государства, став выразителем территориальных устремлений России и дав образец защиты российской жажды захвата»
Пожалуй, вся образованная Европа знакома с романом М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», с его многослойной повествовательной структурой, психологической глубиной, описанием любовных драм и военных приключений русских на Кавказе. Однако Э. Томпсон напоминает — и тут она совершенно права, — что у романа Лермонтова есть и свой колонизаторский аспект. Главные русские персонажи, то есть прежде всего «лишний человек» Печорин и простодушный Максим Максимыч, не проявляют никаких чувств по поводу геноцида народов Кавказа, который осуществляла Россия с 1817 года. Томпсон пишет:
В памяти русских и иностранцев Кавказ 1820–30-х годов XIX века предстает увиденным глазами Пушкина и Лермонтова, а не глазами чеченцев, лезгинов, балхашей или ногайцев. Насколько отличается эта картина истории от того, что осталось в памяти и мифах покоренных народов, можно оценить по числу восстаний кавказских народов, происходивших со времен Лермонтова.
Thompson E.M. Op. cit. S. 120. [15]
Особой глубиной отличается тот фрагмент размышлений Э. Томпсон, который посвящен критическому анализу романа Льва Толстого «Война и мир». Толстой создавал свою эпопею во времена царствования Александра II, в эпоху, как считал писатель, великого национального раздора в России, открытой враждебности между простым народом и тяготевшим к Европе высшим обществом. Поэтому писатель решил обратиться к урокам наполеоновской эпохи, ко времени царствования Александра I, к старым добрым временам, когда помещики и крестьяне в России еще составляли единый народ, дружно сражавшийся с французским нашествием. Между тем, как не без основания отмечает Э. Томпсон, с точки зрения отношения Российской империи к соседним народам эпоха Александра I не очень-то отличалась от царствования Александра II. Когда создавался роман «Война и мир», Россия принимала в свое владение грузинское княжество Сванетию, начинала кампанию в Средней Азии и вскоре покорила западный Туркестан и значительную часть Узбекистана. И даже во время сражений с Наполеоном Россия вела другие войны — на Кавказе и в Средней Азии, традиционно выступая здесь в роли агрессора. Надо еще добавить, что в 1808–1809 гг. Александр I вел победоносную войну со Швецией, после которой присоединил к своей империи Финляндию и Аландские острова. Россия выиграла тогда еще две войны — с Персией (1804–1813), у которой отняла Дагестан и северный Азербайджан, и Турцией (1806–1812), получив от нее после победы Бессарабию.
Ничего этого Толстой не описывает
Процесс привнесения мифа в историю прослеживается и в польско-российских отношениях. Толстой отражает эту тему со значительной степенью идеологической приглушенности. В романе есть несколько эпизодов, касающихся тех поляков, которые оставались на российской службе во время наполеоновской кампании. Это были в основном крупные магнаты из Литвы, Белоруссии и Украины, которым покровительство России служило гарантией стабильности их собственного общественного статуса. Огромное большинство грамотного и полуграмотного польского населения было, однако, решительно на стороне Наполеона. В памяти польского народа отчетливо запечатлелось массовое присутствие поляков в наполеоновской армии — около 80 тысяч, то есть одна пятая вторгшихся армий.
Там же. С. 161–162. В действительности поляков было тогда у Наполеона около 95 тысяч, что делало их первым по численности нефранцузским контингентом Grande Armee. Затем шли итальянцы (45 тыс.) и баварцы (24 тыс.) (Zamoyski A. 1812. Wojna z Rosją. Tłum. M. Ronikier. Kraków: Znak, 2007. S. 92–93). А были ведь еще пруссаки и представители других германских государств, австрийцы, испанцы, голландцы, швейцарцы, датчане и даже хорваты. [18]
Толстой ни словом не упоминает о том, что, наступая на Москву, наполеоновская армия получила мощную поддержку как в Герцогстве Варшавском, так и в Литве, ибо упомянутая «одна пятая вторгшихся армий» мечтала главным образом об освобождении Польши и Литвы от России. Тем временем в «имперском повествовании» Толстого между Россией и Западной Европой снова не находится места никакой другой стране — история Центральной и Восточной Европы у Толстого приобрела тот образ, который отвечал российской политической мифологии. При этом он был одним из авторов идеи «жертвенности», которая играет до сих пор весьма важную роль в политической мифологии русских. И еще, может быть, самое важное — в «Войне и мире» Толстой понимает историю в духе Гегеля, а с этой точки зрения уважения заслуживают единственно «нации государственные», то есть такие, которые в XIX столетии сумели построить сильное государство
* * *
Большое впечатление на читателей книги Томпсон произведет описание националистической пропаганды в советской России в 1939–1941 гг., то есть в период вторжения СССР в Польшу и Финляндию. Как мы знаем, тон антипольской пропаганде задавал Вячеслав Молотов, который назвал Польшу «уродливым детищем Версальского договора»
Э. Томпсон в связи с этим пишет:
хотя колонизаторские устремления Советской России и были продолжением прежнего стремления России завладеть землями, расположенными на запад от этнической России, они сочетались с коммунистической идеологией таким образом, что вызывали национальную вражду в значительно большей степени, чем это происходило в царской империи.
Thompson E.M. Op. cit. S. 273. [21]
Особо внимательного прочтения заслуживает глава «Имперские устремления в позднесоветский период», в частности, та часть, которая посвящена анализу «сибирской прозы» Валентина Распутина. «В своей книге, — пишет Э. Томпсон, — вопреки тому, что говорят некоторые рецензенты, Распутин вовсе не защищает Сибирь от хищнического отношения российского и советского времени, но скорее защищает российское присутствие в Сибири»
Подобным же образом и в «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова Сибирь — лишь «продолжение российского пейзажа и нравов»
Методика и слабости Эвы Томпсон
Поучительная (даже там, где раздражает) книга Эвы Томпсон первоначально была обращена к англоязычной аудитории, поэтому автор все время сравнивает колонизаторский опыт России с историей великих европейских империй. В работе много ссылок на англоязычную литературу по этой теме, отсюда — критика ориентализма, то есть снисходительного отношения европейцев к культурам покоренных народов, отсюда же и благосклонное отношение Э. Томпсон к феминизму, то есть тезис, что российский империализм носил прежде всего грубо мужской характер. Однако если мы согласимся с таким взглядом, надо будет признать, что в России даже некоторые женщины действовали подобно грубым machos. Ведь XVIII век, период, когда Российская империя переживала свой первый расцвет, был временем сменявших друг друга цариц: Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Однако можно согласиться с тезисом Э. Томпсон о том, что главными могильщицами империи становятся в нынешней России женщины-писательницы, прежде всего Людмила Петрушевская. Героини ее произведений на собственной шкуре познают ту неприятную истину, что колониальные завоевания России никак не связаны с развитием цивилизации на ее собственной территории. Ибо величина российского имперского пространства вовсе не влияет на величину жилплощади в Москве.
Э. Томпсон убеждена — и тут ей следует поверить, ибо, будучи профессором славистики университета Райс в США, она опирается на собственный опыт, — что европейская и американская славистика высказываются чаще всего в великорусском духе. И популярные в Америке книги по истории России, написанные Николаем Рязановским и Георгием Вернадским, представляют исключительно точку зрения Москвы. А ведь после развала СССР пора бы уже предоставить право голоса всем малым народам прежней империи; если они еще не умеют защищать свои права сами, то необходимо говорить о них и в определенном смысле за них.
Как было бы прекрасно, если бы по поводу подобной книги среди интеллигенции прошла дискуссия в самой России. Но у меня есть опасения, что после перевода этой книги на русский язык она сразу вызовет нелицеприятные комментарии. Во-первых, в ней слишком много поверхностных и достаточно язвительных суждений о русской культуре в целом. Во-вторых, автор слишком быстро переходит от литературоведения к политической сфере
Что касается первого аспекта, то нельзя согласиться с мнением Э. Томпсон о русской литературе XVIII века: «Элегии Сумарокова, эпические поэмы Хераскова и оды Державина — все эти произведения искусства были бы давно забыты, если бы их не вынесло наверх волной успеха, которая выносит все имперские свершения»; «версификаторы и стихотворцы XVIII века, которых добросовестно перечисляют все учебники по истории русской литературы, несмотря на то, что их топорный язык и интеллектуальная подражательность превращают их в жалкую армию»
Справедливо выступая в защиту покоренных народов, автор совершенно напрасно формулирует по сути своей ложные политические постулаты. В определенный момент она ссылается на высказанный в 1998 году утопический тезис Збигнева Бжезинского о том, что «федерация должна стать конфедерацией, состоящей из основных русских территорий, то есть Европейской России, центрального региона, Сибири и Дальнего Востока»
«Дело Солженицына»
Продемонстрированное Эвой Томпсон в ее книге отношение к Александру Солженицыну свидетельствует о том, что она стремится скорее остаться верной своему исследовательскому методу, чем вступить в рациональную полемику с одним из противников советской империи. Ее главное обвинение Солженицыну состоит в том, что писатель считал статус русских в советской империи ничуть не лучше положения покоренных народов. Тем самым, по мнению Томпсон, он пытался освободить «нацию колонизаторов от чувства несправедливости, которая совершалась в отношении периферии». В «Трубадурах» мы читаем:
Как по иронии, возможность Солженицына приобрести на Западе широкую благожелательную аудиторию была обусловлена пропагандистской и военной мощью самой империи. И до него многие пытались привлечь внимание Запада к советским лагерям, но за этим не стоял авторитет империи, и им не удалось произвести впечатление. Подобная привилегированность осталась совершенно незамеченной Солженицыным и его истолкователями, а ведь это лишь один из скрытых случаев привилегированности метрополии и пренебрежения периферией.
Ibid. S. 40–41. [28]
Если исходить из «постколониального метода исследований» Э. Томпсон, то все правильно, но подобное суждение, к сожалению, вносит путаницу в предмет спора. Солженицын — не только великий разрушитель советской империи, но и один из тех мыслителей современной России, который демифологизировал сказку об империи Романовых. Этим вопросом он занялся после того, как открыл миру глаза на суть коммунизма в «Архипелаге ГУЛаг». В статье «Русский вопрос к концу XX века»
А пока что стоит прочесть эту крайне любопытную и поучительную книгу Эвы Томпсон.