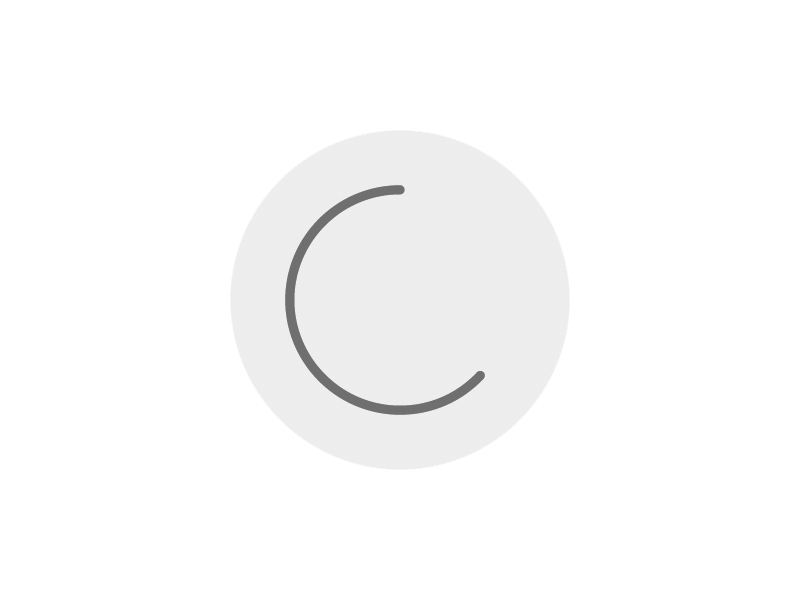Поэт с конца света
Биография, отмеченная пограничностью и междисциплинарностью
Кшиштоф Дариуш Шатравский тесно связан с Вармией и Мазурией, северо-восточным регионом Польши, который располагает к тому, чтобы задаваться сложными вопросами, связанными с историей, смыслом человеческих судеб и деяний. Биография поэта проникнута духом пограничья, понимаемого как в узком, так и в широком смысле слова. Шатравский родился 1 сентября 1961 года в Кентшине — этот город, пространство его детских и школьных лет, расположен примерно в тридцати километрах от польско-российской границы. До 1945 года Кентшин находился на территории Восточной Пруссии. Прежнее название — Растенбург — он утратил в 1946 году, а своим новым именем обязан историку и поэту XIX века Войцеху Кентшинскому, который, обнаружив свое польское происхождение, принял решение стать поляком. Благодаря приграничному рас положению край этот многоконфессиональный: здесь живут католики, греко-католики, лютеране, баптисты, свидетели Иеговы, пятидесятники... Современные обитатели Кентшина и его окрестностей — выходцы из разных регионов Польши или их потомки.
Кшиштоф Шатравский работает в междисциплинарном пространстве. Он — поэт, писатель, музыковед, теоретик культуры, литературовед, публицист и философ. Его интересуют эстетиче ские и философские исследования человеческого бытия и культуры в теоретической и исторической перспективах. Это переводчик-полиглот: с английского он переводил поэзию Уолта Уитмена, Томаса Стернза Элиота, Аллена Гинзберга, Чарльза Буковски, Уистена Хью Одена; c немецкого — цикл «Фантазус» Арно Хольца, поэта из Растенбурга, претендента на Нобелевскую премию по литературе, и поэзию Иоганнеса Бобровского (тоже родом из Восточной Пруссии); с русского — таких авторов, как Максимилиан Волошин, Борис Слуцкий, Вадим Месяц, Андрей Коровин, Борис Бартфельд, Олег Глушкин, Антон Нестеров, Ирина Чуднова, Галина Илюхина, Евгения Доброва, Лариса Йоонас, Лера Манович, Екатерина Перченкова. Кроме того, у Кшиштофа Шатравского есть опыт перевода белорусской, еврейской, литовской, румынской, украинской и итальянской поэзии.
Шатравский известен и как организатор общественно-культурных мероприятий, и как университетский преподаватель, и как поэт-песенник. В 2011 году он получил «Золотой диск» за тексты песен, исполненных одним из самых популярных певцов Польши Кшиштофом Кравчиком и вошедших в альбом «Жизнь того стоит».
В 1980–1984 годах Шатравский обучался музыке на гуманитарном факультете Высшей педагогической школы в Ольштыне. В 1999 году этот вуз был преобразован в Университет Вармии и Мазурии, где ныне он занимает должность профессора на факультете искусств.
Читая произведения Шатравского, важно учитывать, что в 1983–1985 годы он был студентом богословского факультета Института христианской культуры имени Иоанна Павла II. Поэта интересовали духовные песнопения прусских мазуров, в результате чего была написана и защищена кандидатская диссертация «Сакральное пространство в Мазурском канционале» (1996). Докторскую диссертацию Шатравский посвятил уже литературе — творчеству польского прозаика еврейского происхождения Юлиана Стрыйковского. Работа «„Я открывал след утерянного следа...“. Идейная обусловленность творчества Юлиана Стрыйковского» была написана в 2010 году.
Во время учебы Кшиштоф Шатравский подрабатывал помощником геодезиста, что позволило ему лучше познакомиться с культурным ландшафтом Вармии и Мазурии — и осознать, что он живет среди руин прусско-германской цивилизации (и при этом принадлежит к обществу, находящемуся под давлением коммунистической идеологии). В Ольштыне, столице Вармии и Мазурии, Шатравский преподавал в музыкальной студии Воеводского дома культуры; занимался музыкальной и литературной журналистикой в региональной прессе; в школе №1 обучал детей музыке и дирижировал хором. В 1985–1988 годах он был членом оргкомитета фестиваля «Дни музыки» имени Феликса Нововейского — исследованию и популяризации творчества этого выдающегося композитора из Вармии Кшиштоф Шатравский остается верен до сих пор. Он принимал участие в составлении программ Ольштынской филармонии, Силезской оперы в Бытоме и фестиваля «Варшавская музыкальная весна»; преподавал в Высшей педагогической школе в Ольштыне и одновременно руководил собственной ИТ-компанией, создававшей программное обеспечение для бухгалтерского учета и управления промышленным оборудованием; в 2018 году основал и возглавил ежегодный междисциплинарный научный журнал «Художественный форум»; опубликовал несколько десятков научных статей в Польше, а также в Германии, России и США.
Кшиштоф Шатравский сотрудничает с культурным обществом «Боруссия», созданным в 1990 году с целью возрождения регионального интеллектуального сообщества. Он — председатель Ольштынского отделения Общества польских писателей, которое считается одной из самых престижных организаций, объединяющих пишущую братию, и редактор популярной книжной серии «Библиотека варминско-мазурских авторов». Под его редакцией выходили такие высоко оцененные читателями книги поэзии, как «Отсутствие» Эрвина Крука (Ольштын, 2015) и «Тло» Алиции Быковской-Сальчинской (Ольштын, 2016).
Между традицией и экспериментом
Книги Кшиштофа Шатравского всегда удивляют: он постоянно ищет новые средства выражения, которые соответствовали бы не только передаваемому содержанию, но и не запечатленному ранее опыту. Несмотря на то, что поэт сохраняет связь с наследием прошлого, он смело входит в область экспериментов и принимает вызовы поэтики авангарда. Однако в конечном итоге ломает и эти — постмодернистские — традиции.
Кшиштоф Шатравский дебютировал в 1981 году циклом стихотворений «Послание последнего эпигона», в котором заявил о себе как автор, прочно связанный с поэтической традицией. В этот небольшой сборник он включил лирические стихотворения с ритмическим рисунком, строфикой, рифмой. На обложке этого скромного издания, брошюры, двадцатилетний поэт выглядит романтиком: вооруженный перьевой ручкой, он склоняется над чистым листом бумаги.
После публикации экзистенциального цикла стихотворений «24 часа смерти» (Варшава, 1988) и онирического сборника «Ниже сна» (Ольштын, 1989) Шатравский выпустил «Графические стихи» (Ольштын, 1990), в основу которых лег визуально-лингвистический эксперимент: слова в них написаны таким образом, что образуют картину. В 2009 году фрагменты графических стихов были использованы в фильме Януша Моргенштерна «Меньшее зло».
В период экспериментаторства, который пришелся на 1980-е годы, Шатравский написал роман «Реквием по герою» (Варшава, 1989) и сборник рассказов «Отъезд», опубликованный только в 2006 году. Эти работы высоко оценили критики современной польской прозы Генрик Береза
Тяга к экспериментам, как хорошо видно в прозе Шатравского, была творческой реакцией на неопределенность периода восьмидесятых, когда вокруг царили пустота, аксиологическая дезориентация и безнадежность. Такое положение вещей как в политическом, так и в социальном и экономическом планах установилось после введения военного положения 12–13 декабря 1981 года и сохранялось на протяжении последующих 1980-х годов. В своей прозе Шатравский характеризует это время так:
Лишенный голоса человек, вынужденный хранить молчание, пишет о своем ужасе, о том, что не имеет никакого влияния на свою судьбу, что обречен лететь в неизвестном направлении, подавлен и раздавлен действительностью
Там же. [3].
От поэзии идентичности к поэзии миллениума
После 1989 года наступило время преобразований, ознаменованное поисками источников суверенности и субъектности Польши. Формирование субъектного отношения к действительности стало задачей целого поколения.
Книга стихов «Так тихо поет полночь» (Ольштын, 1997), тематика которой перекликается с идеей культурного общества «Боруссия» о том, что все локальное и региональное можно увидеть и в универсальном измерении, создает автобиографическое пространство, где сливаются «малая» и «большая» исто рии, а ключевую роль в этом играют личная память о месте рождения и поиск самоидентификации. Таким образом, произошло весьма важное, даже, может быть, судьбоносное перенаправление художественных и философских интересов поэта в сторону его малой родины. Как писал Януш Джевуцкий,
каждое стихотворение Кшиштофа Шатравского, входящее в сборник «Так тихо поет полночь», это запись одного процесса — восстановления памяти. Поэт постоянно что-то вспоминает, поэтому неудивительно, что одно из ключевых слов в его поэзии — глагол «помню».
Что помнит поэт, родившийся в Кентшине в 1961 году? Детство и юность: уроки музыки и закона Божия, учителей истории и физики; старые звуковые открытки с модными хитами; страсть, с которой собирал марки и катался на коньках. Как большое событие он вспоминает поход с родителями в цирк; помнит репетиции молодежной рок-н-ролльной группы и телепередачу о первом человеке, высадившемся на Луну. Его память работает лихорадочно и всегда на полном ходу — каждую секунду, в каждом произведении.
Сначала этот пейзаж детства, начертанный твердой рукой, кажется идиллическим и сентиментальным, но потом мы замечаем, что в воспоминаниях звучит трагическая нотка <…>.
Получается, что ты живешь настолько, насколько помнишь, даже если то, что ты помнишь, было болезненным и выводило тебя из равновесия. Это может быть воспоминание о странном месяце странного года, когда «взрослые разговаривали тихо / или прервали разговор, завидев нас» (стихотворение «Первые повинности»
Drzewucki J. Imię pamięci [Имя памяти] // Twórczość. 1998. №3. С. 109–110. [4]). Это может быть воспоминание о старом заброшенном прусском кладбище, таившем неразгаданные тайны, которые так будоражили воображение маленького мальчика.
Ты живешь настолько, насколько способен помнить. Насколько ты помнишь, настолько и существуешь. Путешествие Шатравского в детство не имеет целью пробудить сентиментальные эмоции — оно продиктовано желанием подтвердить самоидентификацию.
Опубликованные два года спустя «Песни любви и расставания» (Ольштын, 1999) Славомир Соберай рассматривает как приложение к сборнику «Так тихо поет полночь». Пение служит признаком «императива спасения»
Поэт пересекает границы между явью и сном, реальностью и мечтой. Он выбирает стратегию высказывания через недосказанность и суггестию, вплетая, казалось бы, банальные факты в космическую перспективу. Он осознает, что живет в универсальном круговороте идей и чувств, о которых можно только догадываться. Можно и нужно, чтобы сохранить нечто большее, чем вегетация индивидуума, которая по-ученому именуется экзистенцией
Там же. С. 286. [6].
Книги «Так тихо поет полночь» и «Песни любви и расставания» дополняет и увенчивает историософский сборник «Новый век» (Ольштын, 2014). Это высокой пробы образец поэзии миллениума, отображающей культурные и цивилизационные изменения, прямо и символически связанные с концом ХХ и началом ХХI столетия.
Против нарциссизма и монадизации человека
Поэзия Кшиштофа Шатравского отличается и дистанцируется от того типа творчества, в котором преобладает внимание к зацикленному на самом себе «я». Поэтому поэт нередко говорит от имени сообщества. Он заявляет: «Ты есть, я есть, мы есть». Хотя в своих текстах Шатравский и допускает сентиментальные и ностальгические переживания, он, тем не менее, избегает излишней чувствительности и доминирования «лунных» настроений:
<...>
уходи со своими воспоминаниями
если можешь оборвать эту песнь
и не вернуться в прошлое
где мы всегда ходим в обнимку
а свет луны указывает путь
(из стихотворения «каждую секунду»)
Если в «Новом веке» и появляется интонация сентиментальности, то она мнимая, и автор заключает ее в кавычки самоиронии. Он сопротивляется соблазну нарциссизма и не поддается пагубным, с точки зрения морали, иллюзиям. Поэт предостерегает от монадизации, понимаемой как исчезновение интимных и теплых отношений между людьми. Он снова и снова заставляет нас осознавать, что мы замыкаемся внутри себя и заслоняем собой истину. Неспособность познать то, что существует несомненным, устоявшимся и очевидным образом, причиняет боль. Этот вопрос весьма емок и важен для автора, ибо Шатравский — ученый, он включается в дискурс об установлении истины о (и в) музыке, литературе и культуре.
Если в его поэзии появляются красивость, спокойствие, идилличность, то этим проявлениям и состояниям противопоставляется горькая ирония и подозрительность. Ибо то, что красиво и жизнерадостно, на самом деле может оказаться плохой театральной постановкой, заслоняющей истинную драматургию бытия. Стихотворение под неоднозначным названием «прогноз погоды» завершает ключевая мысль, которую необходимо прочитывать как ребус: «мир полон солнечных людей / а погода будто на заказ».
Окруженный реалиями повседневной жизни поэт погружается в раздумья и превращается в философа-экзистенциалиста. Интеллектуальная лирика — это записи на остановках уходящего времени. Их автор словно постоянно измерял расстояние до самого себя и современности. Желая объяснить мучительные страхи современного человека и его проблемы с самим собой, поэт сталкивается с весьма опасными последствиями капитуляции перед дьявольским соблазном разрушения, чрезмерного удовлетворения потребностей собственного «я». Постмодернизм воспринимается и интерпретируется им как оправдание необузданного стремления к самолюбию, эгоизму. В стихотворении «постмодернисты» мы читаем о «сладком бремени любви к самому себе / настолько сильной, что за ее пределами / нет уже ничего».
Несмотря на все трудности, поэт не отвергает «стремления к не возможному». Ибо, отвергнув его, он уже не смог бы заявить, что он — поэт, художник, философ, то есть человек ищущий. Смысл заключается в том, чтобы следовать тому, чего мы по-настоя щему жаждем, а не тому, что легко и быстро дает чувство насыщения, которое, впрочем, обманчиво. Это не приносит удовлетворения, потому что достижению не предшествуют усердные поиски и терпеливое ожидание. Современный человек бессознательно хочет, чтобы то, чего он страстно желает, приходило немедленно и без усилий, а также неприятных последствий.
Кшиштоф Шатравский показывает несовершенство человеческой природы. Человек деградирует из-за эгоистической сосредоточенности на собственной личности. Люди живут неполноценно, не видя себя самих. Их вера подорвана предательством. Поэт вверяет себя и свой голос людям, от имени которых часто признается в том, чтó они скрывают или не могут сказать. Их попранная вера «как треснувшее зеркало, в котором / отражается каждая комната / и наше небытие» (стихотворение «предательство»). Если они не отражаются в зеркале, значит, они призраки, бесплотные фантомы, не принадлежащие к миру живых. Они нереальны.
А это, как мы помним, образ духовной смерти, который имеет романтические истоки. Но и «предательство», и другие стихотворения «Нового века» не воссоздают фигуры прошлого ради одного только воссоздания; они служат для постановки диагноза текущему моменту в истории человечества. Стихотворение «словно первый попавшийся», посвященное окончанию XX века и описывающее празднество по случаю перехода из старого года в новый, из одного тысячелетия в другое, показывает, как плоско, как поверхностно современный человек осмысляет уходящее время. С одной стороны, его тревожат ужасающие картины конца света, транслируемые средствами массовой информации, а с другой — он хочет веселиться, притворившись перед остальными, что живет без проблем и будет жить вечно.
Поэт устанавливает связь с прошлым, обращаясь к классическим поэтическим жанрам: например, «ночь Дездемоны» написана в форме сонета. Поклонение культурному наследию, почтительное уважение к нему контрастирует со страхом перед бездушным миром, который подчиняется бюрократическим процедурам, а не зову сердца.
В стихах Шатравского высказывается некий многоликий герой, который попадает в разные ситуации и меняет свою точку зрения. В его поэзии присутствует элемент диалога. Собеседник — реальный или воображаемый — обычно молчаливый визави, приглашенный, дабы заронить в говорящем — и читающем — сомнение в их знаниях, убеждениях или правоте. Скрытый собеседник не поддакивает, не выступает в роли резонера или кого-то, кто должен укрепить нас в собственном мнении. Безмолвный спутник необходим, потому что в его реальном или воображаемом присутствии мы можем придать некую силу своему слову.
Деликатно не названный адресат стихотворения «я твой должник» — c большой вероятностью, Иисус Христос. В имеющем множество мотивов, семантически мерцающем монологе, по форме напоминающем диалог, Его учение также участвует в постановке диагноза современному миру, где культура мельчает и вырождается, поскольку в ней преобладают черно-белые схемы. Поэт чувствует себя должником Христа как личности, которая не придерживается стереотипов, а действует неконвенционально, потому что следует истине, голосу чуткости и совести. Понимание мудрости Христа показывает, что современный мир имеет с ней не так много общего.
<...>
я твой должник
ибо наша культура не ценит сомнений
не пускает к столу заплутавших
и так будет всегда
до тех пор пока не признаем, что страдание было фальшивым
для успокоения совести
<...>
(из стихотворения «я твой должник»)
Бегство от сомнений губительно и порождает антикультуру. Поэт ведет свою личную «книгу сомнений».
Надо сказать, Шатравский достаточно деликатно обращается к Библии. В его произведениях звучат строки из псалмов, неочевидные отголоски истории о превращении воды в вино или Нагорной проповеди (Мф 5–7), как, например, в стихотворении «телефон», в котором мы читаем: «блаженны кроткие и мертвые / ибо они наследуют вечность». А дальше поэт удивляется, что «пиво скисает и становится вином / а вино это едкое, словно уксус / разве не смешны такие перемены / истина — как книга без названия / как библия без бога».
Точки опоры и надежды
Поэт верит в искусство как процесс, делающий человека человеком и дающий ему точку опоры. Многие произведения Шатравского пронизывает музыка — отнюдь не только благодаря его профессии. Выверенные по звучанию ритмизованные строки текут, словно музыкальные фразы, — например, в стихотворении «прелюдия», где речь идет об опыте прослушивания музыкальной композиции как о переживании, очищающем разум, психику и душу и вызывающем в слушателе чувство прикосновения к вечности и единения с Бытием:
<…>
но я запомнил это ясное утро
в тот день я так боялся правды
разгоревшейся между словами
и звучала эта прелюдия, такая простая
такая предельно ясная
что уже не слышно звуков инструмента
только кристальная тишина
и простор, который нас охватывает
в гениальных творениях Баха
и уже ничто не очевидно
ничто не окончательно
даже время
Жизнь в музыке и с музыкой, а также музыковедческие интересы Шатравского, находящие отражение в его поэзии, получают то эстетическое, то философское, то нарративное, то ироническое продолжение, как в стихотворении «а если ты будешь моей Жорж Санд». Признание в любви имеет здесь двойную коннотацию. Лирический герой говорит от имени Фредерика Шопена, но этот намек на роман французской писательницы с польским композитором-гением — только ход, чтобы признаться в любви любимой женщине.
Не только музыку, но и другие ценности культуры поэт пропускает через свое сердце. Процесс творения основан у него на соотнесении собственных эмоций, чувств, переживаний, размышлений, интуиции с культурным наследием. Шатравский обращается к мифам, легендам, историям, художественным произведениям, образам исторических персонажей, значимым местам и ландшафтам, существующим, как нам кажется, испокон веков, — это дает мощную опору и составляет крепкую канву для постановки вопросов, гарантируя серьезность диалога и позволяя автору почувствовать живыми самого себя и своих близких — и, наконец, позволяя ухватить постоянно ускользающие от нас проявления и доказательства существования гуманности, как и утекающего времени.
В таких стихах лирический герой постоянно оглядывается назад, подводит итог прожитых лет, возвращается памятью к обжитым местам и пройденным дорогам. Так, в стихотворении «трамвай в джинсах», написанном в духе поэтики Чеслава Милоша, говорится об этапах мгновенно свершающейся судьбы:
<...>
так внезапно закрылся за мной город детства
город молодости уплыл вниз по этой реке
город надежды ускользнул на рассвете
и теперь это город с другими традициями
с барами, тонущими в пивном экстазе
этот город обещает без устали
требует и вьется вокруг нас
как опытный маклер
это город смотрит во все окна
как мы попались на узком мосту, петляем
между шулерством прошлого и великой неизвестностью
этот город становится иллюзией
<…>
Город очевидно наделен здесь уничижительной коннотацией. Он предстает как модель современного мира, пространство которого искушает бессмысленными обещаниями и поглощает самое себя.
Следы катастрофы
Стихотворение «среди берез» отсылает нас к варминско-мазурскому пейзажу, где нередко можно встретить кресты и часовни, стоящие у дорог. Религиозные символы становятся безмолвными знаками, с которыми «разговаривает» только природа: «сегодня здесь еще есть птицы / словно вся традиция / может храниться в их пении».
В романтической поэзии птицы — это прóклятые души, которые по каким-то причинам еще не нашли свой путь в загробный мир. Следовательно, стихотворение «среди берез» можно понимать как не лишенный скепсиса эвфемизм: с наследием прошлого разговаривают только призраки, существа, лишь частично принадлежащие этому миру. Эта неспособность вести диалог с культурным наследием по сути означает утрату профетических, или пророческих, способностей человечества. Как писал более полувека назад польский поэт Тадеуш Новак, «пророки уже уходят». Сходная мысль прочитывается и у Шатравского: «ни один ветер не знает цели / и ни одна песнь не разгадывает прошлое».
Эти строки из «песни странника» свидетельствуют о том, что в мире происходит катастрофа — или, возможно, уже произошла. Стихотворение «теория малого взрыва» — очередная картина наступления конца света, увиденная глазами собаки, которая, испугавшись взрывающихся новогодних петард, впадает в настоящую панику. Непонятная и бессмысленная какофония вызывает у живого существа пароксизм страха.
Эсхатологическая интонация усиливается, когда поэт размышляет о состоянии литературы и чтении книг. Он справедливо отмечает:
<…>
повседневность необычайного роста рынка акций
подходящей конъюнктуры в строительстве
туристических услугах и развлекательном секторе
безумств на книжном рынке, которые скоро
доведут нас до ручки
читательской выдержки
когда наконец все безграмотные станут поэтами
может, поэтому я не хочу слушать жалобы
хотя как ребенок
радуюсь своему будущему
и упорно отказываюсь от бренности
<…>
(из стихотворения «битва наших встреч»)
Мысль о том, что в недалеком будущем новые поколения откажутся от культурного наследия своих предков, ужасает. Шатравский пишет:
<…>
мы тихо погружаемся на дно
в вечную нирвану
в рай беспотомственности
(из стихотворения «генетика»)
Поэт критически наблюдает за окружающей нас действительностью, и то, как он ее видит, совпадает с наблюдением Тадеуша Ружевича, что мы живем в мусорном баке или среди свалок. В «последнем таинстве» читаем:
<...>
мы разгадываем смысл старых сказок
грязь и падаль в зарослях
где полно дырявых покрышек
битых бутылок, полинялых страниц
газет, которые треплет ветер
в остове грузовика
со струпьями старой краски
и присохшей кровью ржавчины
вот обитель и цель
мы прячем лица в воду
текущую по темному дну
в неизвестное будущее
без формы и содержания
без памяти, без надежды
Кажется, что поэт уделяет большое внимание форме и ее содержанию, памяти и надежде. Но можно ли их сохранить? Катастрофическая интонация в его стихах повторяется с нарастающей силой. Достижение однажды поставленных целей теперь становится пугающим, ибо «вместо жизни — мечты / которые исполняются / как проклятие». Нас снова атакует пространство нечистот, когда мы читаем о жизни, которая
<...>
промелькнула в тени великих событий
оставив дым воспоминаний, кучку мусора
горстку заключенных в квадратные скобки
сомнений, образов, слов, непростых отношений
<...>
(из стихотворения «рассвет, который оказался сумерками»)
Поэт описывает близкие и далекие времена и ландшафты, порождающие историософские размышления. Мысли и образы текут как музыка, словно не исходят из уст поэта, а просачиваются из тайных источников знания. К этим профетическим поискам относится и давшая название этой книге поэма «Новый век».
<…>
родятся дочери и сыновья, имена которых
зазвучат как камень, брошенный к камням
и уже не будет музыки, которая вознесет их боль
утолит их счастье, он поверил
что хор голосов подхватит эту мелодию
и уже не будет ни времени, ни пространства
и все сбудется
в одно мгновение и в одном месте
аминь
<…>
Это произведение венчает поэтическое творчество Кшиштофа Шатравского. Уважение к прошлому рождается из осознания того факта, что рано или поздно мы все тоже им станем.
В финальных фразах-видениях воскресают сермяжные реалии времен Польской Народной Республики. Они побуждают к разговору о собственной судьбе и о своем поколении. Фактически это знаки, отсылающие нас к истории, личной и общечеловеческой. И знаки эти обусловлены географически, они находятся в пространственно-временном круге Вармии и Мазурии. О крае, где он родился и живет, об этих северных ландшафтах Кшиштоф Шатравский пишет как о земле обетованной:
<...>
я сижу здесь, на краю света
там, где Коперник доживал свою неудачу
где зимы бывали суровыми, лето капризным
где утренняя прохлада сковывала суставы и освежала мысли
значит, такую Ты мне уготовил обитель
таким меня наделил желанием
и такой тоской одарил
холодный взгляд исподлобья запоздалого прохожего
солнце в дымке, арии с пластинок, старые кассеты
фильмы эпохи достижений и бойких активистов
призывающих к утренней гимнастике
картины тех времен, когда надежда была бесплатной
завернутой, как зельц, в старую газету
или можно было купить ее за пригоршню соли у соседа
у старухи, продающей на углу газировку
<...>
В заключительной части поэмы мы видим размышления о состоянии культуры, отражающем реальное состояние человечества, показывающем отношения человека с тем, что он сотворил. Поэт говорит
<…>
о песне, закрывающей уста и очи мертвым
о традиции, лишенной смысла
о смысле, лишенном слов
обо всех забытых языках
на которых так верно можно было выразить любовь
что нужен был океан крови, чтобы не запомнить их
пусть говорят о великой войне политиков
против всего праведного, ясного и понятного
<…>
Зло современного мира он видит в том, что мы не способны принимать страдание. «Если за тысячу лет вы не научились страдать / то не заслуживаете больше ничего», — эти строки Кшиштофа Шатравского звучат как обвинение. Боль неизбежна, если мы признаем ценность человеческой жизни, которую невозможно заменить ничем другим.
Послесловие к книге: Шатравский Кшиштоф. Новый век / Пер. с польского и предисловие Е. Добровой, послесловие З. Хойновского. СПб: Балтрус, 2022.