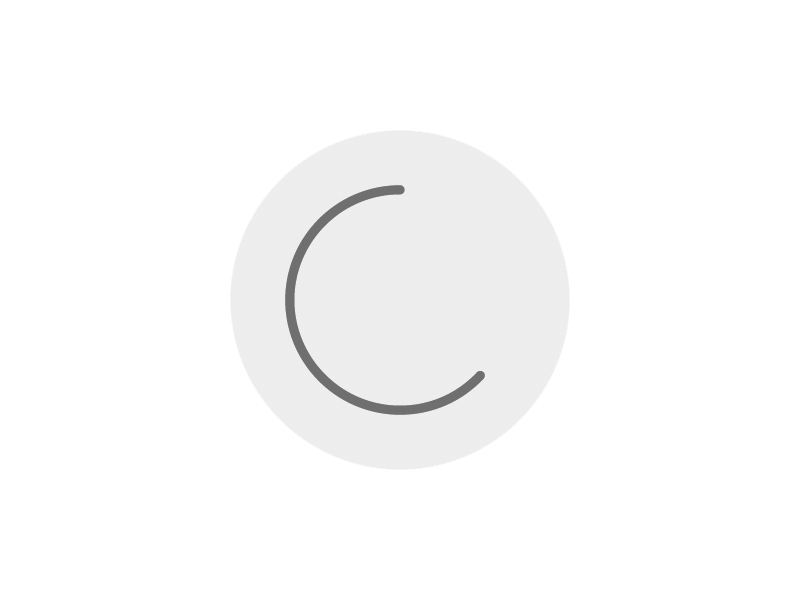Поэт и его пространство
Кшиштоф Шатравский — человек поистине леонардовского склада, преуспевший во многих сферах: музыкант, поэт, прозаик, литературовед, культуролог, переводчик с английского, немецкого и русского языков; профессор Университета Вармии и Мазурии, председатель Ольштынского отделения Общества польских писателей; автор шестнадцати монографий, восьми книг стихов, романа и сборника рассказов — вот далеко не полный «послужной» список этого удивительного человека. Развернутый перечень его свершений и наград занимает две страницы убористым шрифтом.
В настоящее время Кшиштоф Шатравский живет в Ольштыне (воеводский центр Вармии и Мазурии, находящийся в ста тридцати километрах от Калининграда) и уже около десяти лет входит в контекст российской словесности, выполняя роль посла поэзии: в России — польской, в Польше — русской. Он регулярно приезжает в Россию, участвует в литературных фестивалях, в 2016 году перевел сборник стихотворений Максимилиана Волошина, за что получил Волошинскую премию, и опубликовал немало современных русских поэтов в польских альманахах и журналах.
По основной специальности Шатравский — музыкальный педагог, и музыка в его жизни играет такую же важную роль, как и литература. Он окончил кентшинскую музыкальную школу; с конца семидесятых играл на гитаре и бас-гитаре в ансамблях — для этого он даже обзавелся золотым плюшевым пиджаком — и прославился как звезда школьных вечеринок; в 1980 году поступил на факультет музыки Высшей педагогической школы (ныне Университет Вармии и Мазурии) в Ольштыне, сменил освоенные в детстве гитару и фортепиано на кларнет — и завершил обучение в 1984-м. Его кандидатская диссертация «Сакральное пространство в мазурском канционале» (1996) посвящена сборнику лютеранских духовных песнопений XVIII века — параллельно с занятиями на факультете музыки Кшиштоф Шатравский полтора года изучал богословие в ольштынском филиале Папской богословской академии.
На стихи Шатравского писали песни Катажина Брохоцкая, Бернард Хмеляж, Бенедикт Коновальский и Мартин Ваврук, а альбом Кшиштофа Кравчика с его текстами удостоен награды «Золотой диск».
Словом, нет ничего удивительного в том, что для поэта всегда было и остается важным звучание стихотворной фразы, ее фоника, а по его текстам рассыпано множество музыкальных терминов, аллюзий, соотнесений и ассоциаций.
Книжный дебют Кшиштофа Шатравского, если не считать двух выпущенных ранее поэтических брошюр, состоялся в 1989 году. Это был сборник стихотворений «Ниже сна», написанный во время военного положения (1981–1983), — новаторский по своему образному языку, форме и подаче. Двадцатичетырехлетний автор отправил рукопись в ольштынское издательство «Поезеже» («Поозерье») в 1985 годy. По правилам, на каждое произведение редакторы заказывали две внутренние рецензии, на основании которых принималось решение о публикации. Стихи аутсайдера Шатравского передали самому жесткому критику, из-под пера которого почти не выходило положительных отзывов. А тот — отказав до этого нескольким десяткам авторам — неожиданно дал добро. Издателям не оставалось ничего
другого, как принять книгу к публикации. Но еще четыре года она пролежала в редакционном портфеле и вышла небольшим тиражом.
Однако вышла, и это была дверь в мир литературы, к читателю. За сборником «Ниже сна» последовали «Графические стихи» (1990), «Так тихо поет полночь» (1997), «Песни любви и расставания» (1999), «Новый век» (2014), «Время пламенеющих садов» (2017), «Когда кончается время» (2018), «Повсюду» (2021).
Обращался Шатравский и к прозе: в 1989 году был опубликован его роман «Реквием для героя», а в 2006-м — сборник рассказов «Отъезд».
Кшиштоф Шатравский родился в 1961 году в Кентшине (до 1946 года — Растенбург), небольшом городе неподалеку от границы c Калининградской областью, и провел там первые девятнадцать лет жизни — до поступления в институт. Если посмотреть на это место с точки зрения биографических совпадений, в нем можно увидеть признаки некоего особенного духовного пространства. Здесь, на этой земле, жили два крупных немецких поэта: Арно Хольц, с именем которого связаны первые европейские верлибры, и реформатор немецкой поэтической речи XX века Иоганнес Бобровский. Кшиштоф Шатравский окончил тот же лицей, в котором учились они, каждый в свое время, — лицей герцога Альбрехта, как назывался он до войны, а ныне Общеобразовательный лицей имени Войцеха Кентшинского.
Об этом лицее стоит сказать отдельно. Герцог Альбрехт, последний великий магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии, открыл его в своем собственном доме. Когда четыре года спустя появились первые выпускники, которым надо было учиться дальше, Альбрехт основал в Кенигсберге университет. Таким образом растенбургский лицей положил начало знаменитой Альбертине. Это один из городских памятников старины. Позже, в конце XIX века, лицей перевели в специально построенное для него великолепное неоготическое здание. В старом здании учился Арно Хольц, в новом — Иоганнес Бобровский. Обоих классиков Шатравский впоследствии переводил. В 2017 году в Кентшине вышла в его переводе книга Хольца «Девять стихотворений о любви»; Бобровским он занялся позже и подготовил подборку для региональной периодики.
«Читая Хольца, я вижу ту же перспективу, чувствую тот же вкус воздуха и воды, — говорит Кшиштоф Шатравский. — Суть этого пространства не менялась. Что такое Растенбург? Задворки Европы, самая удаленная от Берлина часть Германии. Сейчас эти польские земли — тоже провинция и окраина. Во времена моей молодости его называли Кентукки. Потому что Кентукки в США — это место, расположенное вдали от всего на свете, в центре сельскохозяйственных штатов, — туда не за чем ехать, там скучно, там люди гонят самогон, и в Кентшине тоже гонят. Я помню летние вечера, когда ветер нес его запах над садами. Но иногда людям здесь хочется протянуть руку и поймать Абсолют».
Один из самых известных фактов о Растенбурге — в восьми километрах от него, в лесу Герлож, в 1941–1944 годах размещалось «Волчье логово», штаб-квартира Гитлера.
Земли Восточной Пруссии, которые Бобровский называл Сарматской равниной (территория между Неманом и Вислой), испокон веков были пространством катастроф и исторической вины — вины народов по отношению друг к другу, начиная от насильственной колонизации земель тевтонами в Средневековье и продолжая событиями новейшей истории, будь то погромы и резня Хрустальной ночи, марш смерти и расстрел семи тысяч евреев в Пальмникене или послевоенное изгнание немецкого населения из Восточной Пруссии.
Отсюда берет свои истоки тема катастрофизма в поэзии Шатравского — одна из самых важных, если не сказать — ведущая. Именно в этом русле разворачиваются переживание и осмысление исторического контекста, попытки понять и зафиксировать стремительно меняющийся, умирающий и перерождающийся мир.
В германские времена в Растенбурге было основано несколько серьезных производств и налажено хорошее железнодорожное сообщение с другими городами Восточной Пруссии. Когда после войны ее поделили, Кентшин стал приграничным городом и его судьба изменилась. Производства — в польских руках — продолжали работать. На немецком оборудовании выпускались отличного качества продукты с названием «кентшинские»: майонез, тушенка, дрожжи, пиво. Действовал конный завод; газовый завод производил горючий газ и кокс; были цеха по пошиву одежды, мебельная фабрика, фабрика спортивного инвентаря, литейный завод, даже фабрика елочных игрушек. Денно и нощно со всех сторон звучали гудки — заводы работали в три смены, целые сутки.
Но железные дороги теперь вели в никуда — от них остались одни насыпи, без рельсов и шпал. А раньше они вели в Кенигсберг!
С такого ракурса поэт наблюдал этот мир. Реальность социализма с мечтой о новых домах и новой жизни, верой в то, что будущее принесет лучший мир, с одной стороны, а с другой — с раннего детства он смотрел на сохранившуюся немецкую архитектуру, на так называемые «прусские стены» домов, на изящные дверные ручки, очень хорошо сработанные, так, что было видно: то была великая цивилизация. А теперь ее уже нет. В Кентшине сохранились дома с витражами и фресками в подъездах, и в них мочилась шпана. Это рождало ощущение, что ничто в этом мире не может быть вечным. Культуры и цивилизации приходят и уходят, исчезая в пищеварительном тракте истории.
В 1908 году в Растенбурге была сформирована хоккейная коман да RSV, впоследствии десятикратный чемпион Восточной Пруссии. Игроки тренировались на Верхнем озере, еще в детские годы Шатравского там стояли хоккейные ворота, сохранившиеся с довоенных времен. Будучи школьником, он играл там в хоккей и забивал в эти ворота шайбы. Почувствовать немецкий дух и проникнуться им можно было и в других местах города.
С Верхним озером связана еще одна история — уже не из довоенного прошлого, а из шестидесятых-семидесятых. Каждой весной, когда сходил лед, в озере всплывал труп. В теплое время года в городском парке собирались алкоголики и всегда кого-нибудь убивали. Привязывали к жертве камень и сбрасывали в озеро. За несколько месяцев веревка перегнивала, и покойник поднимался на поверхность. Тогда градоначальники платили алкоголикам, чтобы те взяли лодку и вытащили этого несчастного — возможно, ими же и утопленного. Поглазеть на это сходились жители окрестных домов, с детьми, — стояли на берегу и наблюдали за процессом. «А я не понимал, как можно смотреть на умершего полгода назад человека без глаз, — вспоминает Шатравский. — Для меня это было удивительно и удивительно сегодня. Хотя сейчас я уже понял, что люди такие. Для них это не страшно, это нормально. Это заменяет телевизор».
Образы Кшиштофа Шатравского, его антиутопические видения списаны с реальности, в которой ему суждено было родиться и жить. Жутковатый холодок, непрерывный тревожный фон, шаги приближающейся смерти, стон гибнущего мира. «Большой взрыв», «малый взрыв», «осколки стеклянных цивилизаций». Парадоксы бытия, размышления о цивилизационных проблемах, о кризисе культуры и общества — творчество Шатравского, которого однажды метко назвали поэтом-радаром, прочитывается под многими углами и всегда неотделимо от философии, пронизано лучами ее поисков, идей и проклятых вопросов.
«Действительность тихо повизгивает» — поэт наблюдает.
Предисловие к книге: Шатравский Кшиштоф. Новый век / Пер. с польского и предисловие Е. Добровой, послесловие З. Хойновского. СПб: Балтрус, 2022.