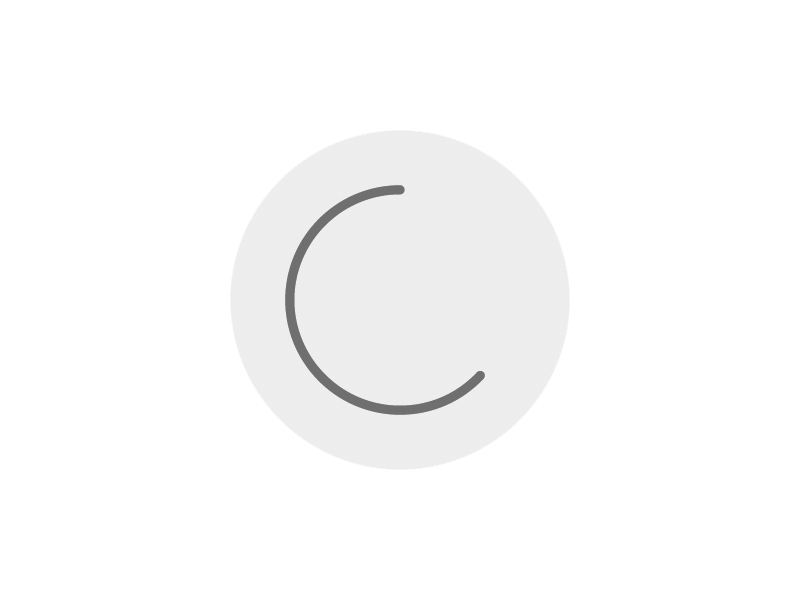De profundis (2)
«Она любит тебя, в сущности, совсем не как сестра»...
Эти несколько слов глубоко запали в его душу. Казалось, будто туда упала точка света и теперь внезапно выросла в целый пожар.
«Когда ты в последний раз уезжал за границу, я думала, что сойду с ума».
Тогда он выслушал это почти равнодушно, но теперь, теперь наконец он понял это.
Раскрыл глаза. Раскрыл их еще шире: страшный свет ослепил его. Он весь съежился. Болезненная судорога страсти, всасываясь, впивалась в его мозг, он не сопротивлялся: дрожь сладострастного желания вползала, как яд, в каждый нерв его тела.
От ужаса он вскочил. Это была отвратительная лихорадка! Боже! Боже! Что же теперь делать? Он должен быть настороже и следить, чтобы она не вернулась. Родная сестра!.. Но ведь это безумие...
Безумно смеялся. Смеялся долго, пока его не охватил страх перед своим смехом.
Конечно, это лихорадка. Как он бессилен против нее!.. Надо опять в постель. Да, вытянуться во всю длину, чтобы сердце снова успокоилось.
Он разделся и положил спички подле постели.
— Они, наверное, скоро опять понадобятся, — усмехнулся он странно.
Потушил лампу. Невыносимая жара. Одеяло давило, как кошмар, он сбросил его. Вдруг мозг его сразу ослабел, счастливое спокойствие сгустилось над ним.
Несколько отрывочных мыслей медленно проползли в его душе и нехотя разорвались, как клочья туч после бури. В его глазах мерцало крошечное пламя, точно блуждающий огонек над зеленой трясиной. Он заметил, как оно поднялось зубчатой крутой линией и снова опало, тяжело и быстро, как скатившаяся звезда. Видел, как оно с быстротою молнии пронеслось над трясиной и потом начало плясать в безумных кругах, все быстрее и быстрее, пока, наконец, тусклой раскаленной массой не остановилось над болотом. И зеленое тусклое солнце росло, вздувалось, кипя переливалось через край, жадными языками лизало мрак и раздирало его в кровавые клочья. И вдруг с оглушительным ревом языки взлетели вверх — еще выше: с необузданной силой круто поднимались в высоту горящие солнца, пока не разбивались о небо. Он видел, как они, толпясь, взбрасывали вверх языки, потом медленно обламывались у верхушки, как бы нехотя сливались вместе и переплетались в пылающую ткань.
И из кипящего урагана света неслось к нему ужасное пение.
Отчаяние, точно перед тысячью открытых могил. Казалось, будто небо разверзлось и Сын Человеческий сошел на землю, чтобы творить суд над добрыми и злыми. Он чувствовал миллионы рук, протягивающихся в безысходном ужасе смерти, с пальцами, которые кричали о сострадании и милости. Он слышал звериный рев, который, как море дымящейся крови, брызгал в небо кипящею пеною, и снова чувствовал он, как скрючиваются и растопыриваются костлявые пальцы и кричат в судороге невыносимого мучения.
«Ad te clamamus exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle»...[1]
И он видел шествие пронесшихся мимо тысяч людей, истерзанных беспощадным экстазом падения, под небом, которое изрыгало на них огонь и чуму. Он видел, как душа этих созданий каталась и корчилась в отвратительной судорожной пляске бытия. Он видел растерзанную спину всего человечества и восторг безумия в озверевших глазах.
Слышал, как шествие медленно удалялось, тупые, опьяневшие от муки звуки доносились, как хрип последней агонии, и медно-красное огненное солнце бросало зеленые переливчатые полосы света над болотами крови.
«Ad te clamamus exsules filii Hevae»! — услышал он вдруг хихиканье над ухом, женщина скользнула к нему в постель. Ее члены медленно обвились вокруг его тела, две тонкие руки крепко, до боли охватили его, и он чувствовал, как в тело его горячо впились две верхушки девичьей груди.
Он задыхался. Сердце больше не билось, лишь бешеный ураган страсти разрывал его мозг. Ее горячее дыхание жгло ему лицо, и ее губы со стоном крепко всасывались в его. Как раскаленное железо, горело ее тело.
Снова чувствовал он, как приближается шествие, безжизненно и тяжело барахтаясь, словно клубок спутанных тел: клубок тел, которые кусались, бешено бросались друг на друга с кулаками, топтали друг друга и в адских мучениях разрывали друг друга, но все же не в силах были распутаться. Пение превратилось в вой диких зверей, отчаяние пронзительно визжало в каком-то триумфе бешенства, и пальцы ломались в истекающей кровью «аллилуйя» гибели.
Он смеялся, кричал вместе с ними, но не выпускал женщины. Он впился пальцами в ее тело. Чувствовал, как ее сердце бьется в его теле, тяжело, глухо, точно язык об треснувшую металлическую стенку колокола, почувствовал вдруг, что два сердца наполняют кровью его мозг, трутся друг о друга и до крови царапают друг друга.
«Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle»...
Отчаяние превратилось в бездну ненависти, в судорожное злобное богохульство, он чувствовал, что человеческий клубок плюет в небо, слышал, как легкие его разрываются в отвратительном крике: Убийца! Убийца!
Теперь руки его ослабели, он выпустил ее. И она перекатилась через него, он слышал, как она кричит, чувствовал, как она зубами перегрызла у него жилы на шее, как руки ее, разрывая, погрузились в его тело.
И снова окрепло его тело. Он бросился на нее, налег на нее с отчаянной силой, ее тело извивалось и сопротивлялось. Но он был сильнее. Руками и ногами он приковал непокорное, судорожно дергавшееся тело, его тело подпрыгнуло несколько раз в болезненной жестокой судороге, дикий ураган вылился в долгом, клокочущем крике.
Он еще крепко держал ее тело в своих объятиях. Члены ее ослабели. В ее руках трепетало его сердце, как потухавшее пламя. Прошла, затихая, последняя волна судороги, невыразимо спокойное счастье проникло в его кровь.
И вдруг он почувствовал, что она уходит, члены ее медленно скользили вдоль его тела; он схватился за нее, в отчаянии прыгнул вслед за нею...
— Агая! — крикнул он, — Агая!
В то же мгновение он оступился, упал и пришел в себя.
Он лежал на полу. Снова бросился в постель, страх разрывал его мозг.
Это быль не сон, это было больше, чем когда-либо могло быть в действительности, в тысячу раз больше, крикнул он про себя... Не сходит ли он в самом деле с ума?
Последним усилием выбросил он из головы все мысли, с отчаянием уцепился за какое-то глупое воспоминание, но его лихорадочная фантазия, пенясь, переливалась через его душу: он так живо чувствовал бешенство страсти ее тела, на губах его были ссадины, тело его было точно разбито от страсти ее объятий. Это была Агая, Агая — кошмар! Агая — вампир!
В ужасе вскочил.
Это была она, она могла в одно и то же время быть в двух местах. Она могла раздвоиться, и теперь она была у него.
Он чувствовал, что сейчас страх убьет его. Хотел зажечь огонь. Руки его судорожно тряслись. Наконец, ему это удалось.
Это успокоило его на мгновение.
И вдруг снова охватил его дикий пароксизм страсти и жажды Агаи. И он хотел уже снова броситься в лихорадочную оргию этой кровосмесительной похоти. Стоит только потушить огонь, и он снова будет переживать это.
Но страх возрастал в нем. Поток страха остановился в его мозгу: это стоило бы ему жизни.
Он судорожно сложил руки и со стоном искал спасения.
Наконец жадно схватился за книгу, которая лежала на ночном столике: на первой странице был его собственный портрет.
Бегло взглянул на него, кровь его застыла от ужаса. Взглянул еще раз: черты, казалось, оживали, лицо росло, оживало, казалось, хотело говорить...
Перевернул несколько страниц и начал читать вслух. Но его голос, звеня, отдавался в мозгу, и у него было такое чувство, что тот, другой, сию минуту, сейчас, сейчас вылезет, вырастет из книги и уставится на него...
Вся книга стала как будто живая, она, казалось, двигалась в его руках, он в ужасе отбросил ее прочь, она двигалась, она ползла по полу, тот, другой тяжело выбивался наружу, сейчас, сейчас он его увидит...
В бешенстве вскочил он с постели, всем телом навалился на книгу, потом схватил ее руками, душил, рвал, но чувствовал, что его что-то высоко с силой подымает точно воротом...
— Это безумие, это безумие! — кричало в нем. Он вскочил, точно помешанный, выпучил глаза на книгу: видение прошло, но он боялся ее поднять.
Наконец пришел в себя.
Сел, бессилие парализовало его сердце. Опустился на постель и в тупом отчаянии уставился на одеяло.
И вдруг снова встало перед ним воспоминание об оргии, которую он только что пережил.
Его начало терзать болезненное желание, силы его слабели, он начал уже снова погружаться, но вдруг совершенно машинально быстро встал, абсолютно не думая и не желая думать, оделся, как будто в сомнамбулическом сне, и вышел на улицу.
Огляделся: он был действительно на улице. Он не совсем ясно представлял, как сошел вниз. Но он был счастлив, что ушел, ушел из этой ужасной комнаты, где сатана справлял свою мессу.
«Теперь нужно верить в сатану», — пробормотал он глубокомысленно, да, в сатану и в его утонченную, жестокую мессу пола...
Он уселся на ступенях какого-то памятника, опустил голову на руки и впал в лихорадочный полусон.
Вдруг вздрогнул, кто-то совсем близко остановился возле него.
Взглянул, в сумерках рассвета увидал девушку, видел лишь, что она была очень бледна и что у нее были большие широко раскрытые глаза.
Долго смотрели они друг на друга.
— Я хочу пойти с тобой! — сказал он и встал.
— Идем! — она быстро пошла вперед.
— Не так скоро, тише. Я чувствую ужасный страх. Но ты будешь держать мои руки, тогда я сейчас же усну... Я совсем не такой, как другие мужчины, совсем не такой, — прибавил он, помолчав.
Она с удивлением посмотрела на него. Он вдруг заметил, что говорит совершенно бессознательно.
Снова остановились.
— Да ведь ты еще дитя, — сказал он с удивлением, — я мог бы взять тебя на руки и нести. И идешь ты так легко, что я едва слышу твои шаги...
— Идем, идем, еще далеко.
— Далеко? Но я едва могу идти.
— Дай руку. Так..
Он вдруг почувствовал новую силу.
— Ты будешь держать мои руки, крепко, как можно крепче, даже во сне, хочешь?
— Да, да...
— Еще далеко?
— Сейчас, сейчас...
Шли молча.
— Здесь! — сказала она тихо.
— Здесь?
Взошли на первый этаж.
— Ну, иди, иди, — она бегло поцеловала его, — мы оба так страшно устали, так страшно устали, — повторила она задумчиво. — Я буду спать с тобой и все время держать твои руки.
Он лег и взял ее на руки, как ребенка. Она обняла руками его шею.
— Так ты чувствуешь меня сильнее? — сказала она серьезно.
— Кто ты? — тихо спросил он.
Она не отвечала.
Он тотчас же заснул.
Они сидели на веранде ресторана.
Было далеко за полдень. Дома бросали тяжелые, густые тени на широкую улицу, густая листва деревьев была испещрена пурпурными пятнами. Там, впереди — дерево, листья которого уже совершенно пожелтели, а в стороне, вдоль улицы беспокойно дрожала целая палитра красок, от лихорадочно-пурпурного до тусклого бледно-желтого: он почувствовал внезапный интерес к тысячам красочных переливов...
— Почему ты ни слова не говоришь? Неужели же нам сидеть все время молча?
Агая была очень возбуждена. Он взглянул на нее и странно усмехнулся.
Она вздрогнула.
— Почему ты так смотришь на меня?
Они долго пристально смотрели друг на друга. Она покраснела и опустила глаза.
— Ты никогда еще не смотрел на меня так, — пробормотала она тихо.
Он придвинулся к ней ближе.
— Да, Агая, я никогда еще не смотрел на тебя так. Ты права. Но ты для меня уже больше не то, чем была вчера. Я хочу знать, кто ты. До сих пор я не знал тебя.
Она напряженно смотрела на него.
— Я смотрю на тебя не так, как смотрел вчера... — он помолчал немного. — Почему я не говорю? Я не хочу сказать тебе ничего страшного.
Она высоко закинула голову и вызывающе посмотрела на него.
— Но я жду его все время — это страшное. Всю жизнь, двадцать четыре года жду я это страшное! Скажи же его, наконец.
Он пронизывал ее своим взглядом. Она смотрела в сторону.
— Я не шучу, Агая! Сегодня я необыкновенно серьезен. Никогда еще в жизни не был я так серьезен.
— Да? Вот как? Но почему же тебе не быть серьезным.
Он злобно рассмеялся.
— Ты любопытна, ты хочешь у меня выпытать... Но разве ты не знаешь, что я хочу тебе сказать? Разве ты этого не чувствуешь?
Она молчала.
— Не чувствуешь? — он задрожал.
Молчание.
Она чокнулась и выпила.
— Пей же, — засмеялась она. — Не хочешь ли ты записаться в общество трезвости? А? Верно, опять лихорадка? Бедняжка!
Он жадно выпил; рука его дрожала.
— Но скажи же, наконец, страшное! Разве ты не видишь, как я заинтересована?
— В самом деле сказать?
— Почему бы и нет? — она презрительно смялась. — Но пей же, пей! Жилы твои бьются, как будто хотят разорвать кожу.
Он снова выпил.
— Агая, помнишь ли ты ту страшную ночь — тогда...
Она заметно вздрогнула.
— Помнишь?
— Нет!
— О, о — ты помнишь очень хорошо. Уже двенадцать лет думаешь ты об этом. Зачем ты лжешь? Тебе было тогда лет двенадцать, тринадцать — так! Ты боялась грозы и пришла ко мне в постель, я должен был рассказывать тебе сказки...
Она принужденно рассмеялась...
— И я рассказывал тебе всю ночь напролет. Я мучился желанием придумать что-нибудь новое. Ты была так избалована, ты спала у меня каждую ночь... Он посмотрел на нее почти с ненавистью.
Пальцы ее беспокойно, в нервном возбуждении бегали по столу.
— Небо бросало молнии и огонь. И каждый раз, когда оно разверзалось, и наша спальня наполнялась зеленым огнем, мы крестились и твердили молитву: и Слово плоть бысть... Ты не помнишь? И ехал рыцарь на черном коне, и у коня были золотые копыта. Они блестели на солнце так, что люди слепли... Снова гремело небо: и Слово плоть бысть... И вот приехал рыцарь к горе, которую сторожил великан... И Слово... Не правда ли? Так продолжалось всю ночь. И потом вдруг этот страшный, длившийся целую минуту гром и треск, молния ударила в тополь, совсем близко от нашего дома! Ты, дрожа, бросилась ко мне на грудь и так крепко прижалась ко мне... Теперь еще чувствую я твои худенькие ручки, обвившиеся вокруг моего тела, и нежные ноги, впившиеся в меня в болезненном жару... У тебя была тогда лихорадка. У тебя всегда бывала лихорадка. Теперь ты знаешь?
Она низко опустила голову. Он не мог видеть ее лица. Оно было закрыто широкими полями черной летней шляпы.
— Ну, пей же! — сказал он с таинственной усмешкой. — Твое здоровье!
Она молча чокнулась с ним.
— Да, ты пьешь великолепно. К этому приучил тебя я. Ты боялась, что я стану тебя презирать, если ты не будешь пить. Боже, как ты должна была меня любить! Ты все делала только ради меня. А теперь, теперь?.. Агая! Теперь?
Он напряженно ждал ответа.
Она молчала.
— Теперь? — спросил он горячо.
— А страшное ты уже кончил?
Голос ее звучит насмешливо и презрительно.
Он громко засмеялся.
— Ты, как видно, быстро оправилась. Это было так неожиданно. А сначала ты была совсем больна от возбуждения. Я вижу еще, как дрожат твои руки, и на лице горят красные пятна.
Она с бешенством посмотрела на него. Он ответил на ее взгляд циничной усмешкой.
— Нет! Я совсем еще не кончил... Да, тогда... Ха, ты так охотно это слушаешь... Я проснулся рано. Я не мог спать. Осторожно снял твои руки со своего тела. Ты заснула у меня на груди. Я встал и начал одеваться. И тут я вдруг увидел тебя. Да, вдруг: до тех пор я никогда еще тебя не видел... не видел! понимаешь? Было, должно быть, жарко, потому что ты ногами сбросила одеяло и лежала совсем нагая.
Он хрипло засмеялся.
— Рубашка собралась у тебя до самой шеи, спала ли ты тогда?
Он тихо, на ухо прошептал ей этот вопрос. Она смотрела на него. Лицо ее подергивалось. Глаза были полны горячего, лихорадочного блеска.
Она медленно, жадно проникала своим испытующим взглядом в его душу.
Он съежился.
— Ты не слышишь, что я говорю? Твоя рубашка поднялась до самой шеи, и ты лежала совсем нагая. И я уверен, что ты не спала, я уверен, что твой взор из-под длинных ресниц вползал в мою кровь... Да возмутись же немного! Разве ты не возмущена?
Она снова опустила голову.
Он внезапно успокоился.
— Я наблюдал тебя. Я не мог оторваться от твоего тела. Сердце мое стучало так, что я не мог стоять.
Она вскользь с искажающим, лихорадочным смехом взглянула на него.
— И что же тогда? — спросила она хрипло...
— Тогда, тогда... — голос его дрожал, тогда я припал к тебе и целовал тебя...
— В губы? — она с трудом выговорила это...
— Нет... — он снова начал говорить шепотом. — Да ведь ты же знаешь, ты не спала — ты проснулась, все твое тело сильно дрожало...
Лицо ее снова исчезло.
Когда она взглянула опять, в лице ее сиял как бы восторг муки, и глаза мерцали бесконечной, жестокой болью.
— Говори же! Говори дальше! — произнесла она вдруг.
Его начало лихорадить. Кровь внезапно бросилась ему в мозг.
— Потом я забыл тебя. Я не видел тебя почти двенадцать лет. Я женился. И с тех пор ты перестала быть для меня женщиной, ты была лишь бесконечно дорогой сестрой... Да, впрочем! Однажды, в прошлом году, когда мы были с тобою одни и так много пили, ты вдруг сделалась необыкновенно зла, насмехалась надо мной, делала пикантные намеки насчет моей женитьбы и вдруг бросилась на меня и укусила в губы, так что потекла кровь... Тут по мне начало пробегать что-то горячее.
— Я тебя укусила? — она зло засмеялась.
— И потом, когда ты у нас гостила и однажды утром принесла мне в постель кофе...
Она в бешенстве вскочила.
— Ты, кажется, с ума сошел? Не хочешь ли ты внушить себе, что я люблю тебя как женщина?
Он странно усмехнулся.
— Ты сама себя выдала. Ты никогда не любила меня как сестра. Ты всегда дрожала при виде меня, как я теперь дрожу в твоем присутствии. Так знаешь, когда еще? Однажды, когда был день твоего рождения, и к нам пришло так много детей? Мы играли в прятки. Ты всегда проскальзывала ко мне в самые темные уголки и горячо прижималась ко мне. Взгляни же на меня, дай посмотреть тебе в глаза... Еще знаешь, когда мы оба так разгорячились и едва не задушили друг друга в таком возбуждении, которого у детей обыкновенно не бывает? Тогда я стал мужчиной...