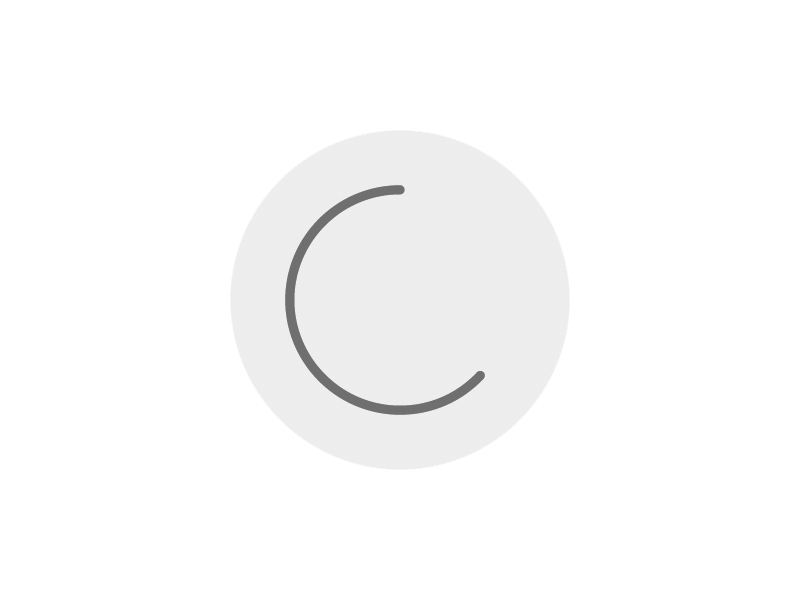Над Неманом. Часть вторая. Глава пятая (1)
У открытого окна, на длинном некрашеном столе, на груде истрепанных книг стояла лампа с высоким колпаком; на краю, возле глиняного кувшина и простого зеленого стакана лежал среди горсточки крошек недоеденный ломоть ржаного хлеба.
— Уж коли отворил окно и спросил себе хлеба, значит, скоро оживет, — шепнул Ян.
В глубине комнаты на кровати, застланной домотканым клетчатым одеялом, в кафтане и сапогах лежал Анзельм с закинутой за голову рукою.
Широкий рукав кафтана закрывал всю верхнюю часть его лица вплоть до бледных губ, оттененных седоватыми усами. Эти губы были так сурово сжаты, как будто бы вот-вот готовились раскрыться для гневного крика или сурового порицания.
На стене над неподвижным Анзельмом блестела золоченая рамка иконы, и темнели изображения рыцарей, полуприкрытые терновым венцом.
— Если теперь у него над ухом из ружья выстрелить, он не двинется и ничего не скажет… никакой крик, никакая просьба, ничто не поможет. Сам собою потом поднимется и оживет, — сказал Ян.
Ян и Юстина отошли в сторону. С маленького крылечка видны были сени и внутренность чисто выметенной кухни. За белым сосновым столом сидели две девушки в праздничных, ослепительно ярких платьях пунцового и василькового цвета, в туго обтянутых корсажах и пестрых лентах, повязанных на шее. Облокотившись на стол, они склоняли друг к другу головы, обернутые гладко заплетенными косами, и без умолку шептались о чем-то с большим оживлением. Между ними лежал на столе початый каравай хлеба и стоял черный глиняный горшок, из которого они хлебали деревянными ложками густую белую ботвинью из свекольной ботвы, заправленную уксусом и сметаной. При виде входящей гостьи обе девушки встали; Антолька робко поклонилась, зато Эльжуся крепко пожала руку Юстины и сказала:
— Как хорошо, что вы к нам пожаловали! Мы всегда так рады вас видеть!
Она говорила с веселою и приветливою улыбкой, но ее узенькие, блестящие, как у Фабиана, глаза с пытливой насмешливостью скользнули по лицу Юстины и устремились вслед уходящему Яну.
— Прошу садиться, — сказала младшая из девушек. — Вы, Юстина, не простудились, когда возвращались с могилы?
— Ого! — удивилась Эльжуся. — Ишь, какая смелая, паненку по имени называть!
Антолька переконфузилась и повернулась лицом к стене.
— Да она сама меня просила…
Юстина обняла ее тонкий стан и поцеловала в раскрасневшуюся щеку.
— Платье промокло. Я бы с удовольствием обсушилась у огня.
— Я сейчас затоплю печку!
Антолька выбежала в сени и принесла несколько поленьев.
— Подожди! — сказала Юстина и, отстранив ее, присела на пол у печки и начала разводить огонь.
— Ой-ой, не сумеете, — на всю хату рассмеялась Эльжуся.
— Сумею, не велика хитрость! — ответила Юстина.
— Так-то оно так, только не ваше это дело.
— Вот видите, уже горит.
Действительно, кусок березовой коры загорелся в печке и огненными языками охватывал сухие поленья. Из-под печки выглянул пепельный кролик; Юстина взяла его на руки, и ручное ласковое животное тотчас же доверчиво прижалось к ее груди. За первым кроликом показался другой, третий, четвертый… все сбились в один шелковистый пестрый клубок и смотрели на Юстину своими черными глазами в красных ободках.
— А мы только что о вас говорили. О волке толк, а тут и волк. Отлично!
— У нее есть просьба к вам, — усмехнулась Антолька и поправила кочергою дрова в печке.
Эльжуся толкнула ее локтем и хотела зажать ей рот, но Антолька, смеясь, откинула голову назад.
— Она хочет просить вас к себе на свадьбу. Говорят, что свадьба будет веселей, если придете вы и молодой пан Корчинский. И в глазах людей это ей важности придаст. Молодого пана Корчинского сам Фабиан пригласит. Фабиан хоть и дерет нос кверху, но ему страсть как хочется видеть панов в своей хате. Свадьбу сыграют через две недели после окончания жатвы. Фабиан ездил осматривать дом и хозяйство жениха и остался доволен. Положим, в хате куча народу: мать, два брата, сестра; зато земли у них моргов пятнадцать, скота штук двадцать, и семья хорошая: мать из дома Гецолдов; один брат управляющим у разных панов служил, теперь женится, берет приданого тысячу рублей и хочет взять в аренду какой-нибудь фольварк.
— А жених? — спросила Юстина.
Девушки засмеялись.
— Молоденький такой… — шепнула Эльжуся, и маленькие глазки ее блеснули.
— Ему не больше двадцати одного года; в солдаты не пойдет, потому что двоих старших взяли, — разболталась Антолька. — Хорошенький такой, только ростом мал.
— А ты бы хотела, чтобы все на свете были такие жерди, как твой Михал! — обиделась Эльжуся. — Ну и пусть маленький, зато миленький….
Она снова расчувствовалась до слез, но тут же принялась рассказывать, что отец назначает ей в приданое шестьсот рублей, но сразу выдать всего не может — наличных нет. Дает только половину, а на другую — вексель. Так и с семьей жениха сговорились.
— Зато пир на весь мир будет — ведь он такой гордый! — перебила Антолька.
Вещи и приданое Эльжусе дадут хорошие. Белья мать нашила целый сундук, а отец, когда ездил в последний раз в город, привез ей кашемиру на платье — настоящего кашемиру, черного, — платье выйдет такое, что лучше и желать нельзя. У нее и другое будет, темно-красного цвета, но то дешевле…
И так далее, все о нарядах. Юстина расспрашивала, кто им шьет платья, например, те, которые надеты на них теперь; надевают ли они эти платья только по праздникам или в будни носят?
Тут обе девушки разболтались, как сороки. Платья им шьет портной-еврей, он живет в соседнем местечке; таких платьев у них по одному, по два, и носят их только в праздник. В будни надевают только те, что соткут дома, и кто лучше и красивее соткет, тому честь и слава. Ни у одной девушки в околице нет столько платьев, сколько их у Домунтувны, и у нее даже браслеты есть (все золотые!), серьги и перстни! Да и немудрено: она богатая, единственная наследница деда; ей очень хочется понравиться Янеку. Но Янек совсем не смотрит на ее платья с длинными хвостами и на золотые браслеты; даже стал меньше обращать на нее внимания, как она щеголять начала. Раз на гурбе (так у них называются вечеринки с танцами) Домунтувна начала в танце звенеть своими браслетами, так он ее назвал цыганскою лошадью. Потому он ее назвал так, что цыгане всегда своих лошадей убирают разными побрякушками и бубенчиками.
Они рассказывали, перебивая друг друга, и обе так и покатывались со смеху. Юстина тоже смеялась.
Когда Ян, сняв измокшую одежду, в куртке из домашнего сукна с выпущенным отложным воротником белой тонкой рубашки показался на пороге, в кухне было шумно и весело.
Антолька вынесла из боковой комнатки огромную охапку тканья и показывала свои работы. Тут были и платья, и коврики, и одеяла, пестревшие всевозможными цветами, полосатые, клетчатые, пестрые — шерстяные или пополам со льном.
Ян спросил о матери. Она ушла в Стажины к мужу и завтра чем свет вернется назад и пробудет еще несколько дней. В Стажинах почва сырая, хлеб поспевает позже, чем в других местах, поэтому она может помогать детям, а потом и к своим как раз вовремя поспеет. Две мили пройдет сегодня, две обратно завтра и утром явится в поле с серпом, как будто ей не пятьдесят лет, а двадцать.
— Бога благодарить нужно за такую старость, — заметил Ян. — А все это оттого, что матушка всегда была веселая и никогда горя близко к сердцу не принимала. Впрочем, не всякий с таким характером родится.
Узенькая, почти незаметная дверь в глубине кухни тихо отворилась, и Анзельм спросил:
— Показалось ли мне так, или вправду я услыхал голос панны Юстины?
Юстина подбежала к дверям.
— Через порог нельзя здороваться! Нельзя через порог! От этого между нами может выйти какая-нибудь неприятность… а я с вами ссориться не хочу… не хочу! — с непривычной живостью и шутливостью воскликнул хозяин дома и переступил высокий порог.
Юстина взяла его руку и с минуту молча смотрела на него. Так вот человек, которому Марта на песчаном пригорке когда-то повесила образок на шею, который потом с почерневшим лицом, с потоками воды, сбегающей с волос и одежды…
В первый раз она видела его без шапки. Лоб у него был белый, высокий, со множеством морщинок, которые целым снопом лежали между бровями и оттуда расходились тонкими нитями по всему лбу вплоть до редких седеющих волос.
Антолька подбежала и поцеловала ему руку.
— Сегодня я в первый раз вижу дядю. Он подстерег, когда я вышла за водой, пришел в кухню и отрезал себе кусочек хлеба. Прихожу я домой — хлеб на столе, а дверь опять заперта… и все это для того, чтобы никого не видеть…
— Такое на меня раздражение по временам находит, что и милое немилым становится, — ответил Анзельм и, сжимая руку Юстины крепче обыкновенного, пытливо вглядывался в ее глаза.
— Вы, говорят, вчера жали на нашем поле? Сегодня на могилу с Яном ездили, а? — не спуская с гостьи внимательного взора, продолжал он. — Новости, истинно но…вости!.. — Анзельм заикнулся, и приветливая, радостная улыбка появилась на его устах и разлилась по всему лицу. — Покорнейше прошу в светлицу, покорнейше прошу! Где это видано — гостя в кухне принимать? Низка наша хата, но не тесна, нет, не тесна!
Придерживая одной рукой расходившиеся полы сермяги, он указывал другою на дверь и еще раз повторил:
— Покорнейше прошу в светлицу!
В кухне было три двери: одна, обыкновенного размера, вела в сени, и две низенькие и очень узкие. Юстина остановилась в нерешимости, куда идти; старик заметил это, предложил ей руку и повел через сени в светлицу.
Когда-то в корчинском доме он видел этот обычай, и сам, вставая из-за обеденного стола, нередко подавал руку высокой черной веселой панне.
Светлица была низкой, но обширной комнатой (она занимала почти половину дома Анзельма), с тремя окнами, с чисто выбеленными стенами, с полом из простых сосновых досок, ладно пригнанных одна к другой и гладко выструганных.
Вокруг потолка по краям, где толстые, выбеленные известкой бревна скрещивались с тонкими досками, темнели пустые треугольные щели; одну стену почти целиком занимала белая изразцовая печь с рядом маленьких выемок внизу: в зимние вечера в них, должно быть, трещали сверчки, оглашая всю комнату своими песнями. В углу стоял одинокий огромный столетний диван из ольхового дерева, выкрашенный красной краской и обитый клетчатой тканью домашнего изделия. Напротив дивана помещалась кровать из сосновых досок с массою высоко взбитых перин и подушек.
На ольховом комоде красовалась шкатулка с зеркалом, небольшое черное распятие, обвитое гирляндой из желтого молодильника, и маленькая лампа с грибообразным стеклянным колпаком.
Наконец, у стен стояли высокие зеленые или разрисованные цветами сундуки с выпуклыми крышками, обитыми железом, скамейки из белых досок и несколько стульев, еще не выкрашенных, с деревянными сиденьями и со спинками из гнутого клена или граба.
Сквозь дверь возле огромной печки виднелась боковая маленькая длинная комнатка с одинокою, но тоже изобилующею перинами кроватью. То была, вероятно, комната Антольки, потому что среди образков, покрывавших стену над кроватью, самыми большими размерами и самыми яркими красками отличалось изображение ее ангела, украшенное венками, освященными вербами и гирляндами только что сорванных ноготков.
В открытые окна врывались волны свежего воздуха, пропитанного ароматом сада.
Анзельм подвел Юстину к одному из столов.
— Садитесь в кресло — вам удобнее будет в нем, чем на лавке, пожалуйте.
И с живостью, которой от него трудно было ожидать, он ловко и любезно подставил ей кресло. Эльжуся, тяжело перевалившись через высокий порог светлицы, глядя на хозяина дома, расхохоталась.
— Скоро конец свету наступит, — сквозь смех проговорила она, — коли пан Анзельм так расходился, будто никогда и не был ворчуном.
— Все ты пустое говоришь, — шутливо ответил Анзельм. — Если б у тебя был ум, ты бы знала, что кто медведя осилит, тот его и за нос водить может. Вот и меня панна Юстина, видно, осилила.
Он сел на скамейку и крикнул Антольке, чтоб она угостила гостью ужином.
— Я сам со вчерашнего вечера съел только кусочек хлеба, да и Ян, думаю, проголодался после купанья, — прибавил он.
Анзельм еще вчера узнал от племянника о предполагаемой поездке на могилу и теперь расспрашивал молодых людей, как они укрылись от бури, сильно ли промокли, сколько времени провели в лесу?
Ему самому приходилось несколько раз сталкиваться на могиле с вдовой Анджея, которая тоже навещала это место, только очень редко и то как бы украдкой. Она — большая пани, на нее обращено всеобщее внимание, — понятно, ей труднее совершать подобные поездки, чем, например, ему, Анзельму. Кто за ним будет следить? Никто и не узнает, что он ходил помолиться на место, где его брат покоится вечным сном.
Их только двое было братьев, да третья — сестра, которая вышла замуж в Заневицкую околицу, откуда была родом их мать; а вот мать Яна — та из Семашек, и ведь так пришлось, что она уже в четвертой околице живет: сперва в родных Семашках, потом в Богатыровичах, когда вышла замуж за Ежи; потом за вторым мужем в Ясмонтах, а теперь, за третьим, в Стажинах.
— И кто знает, последний ли это муж и последнее ли это ее пристанище, — шутливо заметил он. — Только кажется мне, что случись сегодня овдоветь, и года не пройдет, как она выскочит за четвертого!
Юстина расспрашивала его, велики ли околицы, которые он ей назвал, и много ли в них народу. Он отвечал с охотой и весьма обстоятельно; но сам он уже много лет никуда не ездил и, не зная иных подробностей, иногда обращался к Яну.
— Вы всех увидите на свадьбе Эльжуси, — сказал Ян. — У Фабиана везде полно родни и знакомых, а он, конечно, захочет, чтоб о свадьбе его дочери слух прошел на весь мир.
Между тем Антолька и Эльжуся вытерли стол чистой тряпкой и в течение получаса заставили его всем, что только можно было раздобыть в хате Анзельма и Яна. Рядом с небольшим караваем хлеба появилась миска простокваши, смешанной с розовой сметаной, потом другая с медовыми сотами, только что вынутыми из улья; два сорта сыра — свежий и старый, масло на блюдечке; наконец Эльжуся, вся раскрасневшаяся, принесла сковороду с дымящеюся яичницей.
— Уж коли я сделаю яичницу, — вскричала веселая девушка, — то сам отец ест да похваливает. А ему угодить так трудно, как через этот дом перескочить.
— Я думаю, что ты когда-нибудь и через дом перескочить ухитришься; ты ведь у нас молодец, — засмеялся было Ян, но, увидав миску с медом, нахмурился.
— Кто это ходил за медом? — рассердился он.
— Кто же, как не Антолька? Только она одна и могла осмелиться, — ответила Эльжуся.
— Я ей раз навсегда запретил! — закричал Ян и ударил рукой по столу. — Неумелый человек все испортить может, а она коли не училась, как с пчелами обращаться, то пусть и не сует в улей своего носа!
Он собирался встать и идти побранить сестру, как из боковой комнаты появилась сама Антолька. Она чуть не плакала и прижимала руку к щеке.
— Что, укусила? — спросил Ян.
— Чтоб ей пусто было! — сквозь слезы простонала Антолька.
Ян, еще не успокоившийся, ничего не сказал, зато Анзельм поспешил на выручку племянницы.
— Экая важность, что пчела укусила! Зато меду достали! Болит немного? Ничего, до свадьбы заживет!
Он взял хлеб в руки и начал резать. На нижней корке явственно отпечатлелись следы сухих дубовых листьев, которыми устилают печь, чтобы хлеб не запачкался в золе и пепле.
Придвинув стулья и скамейку, все уселись за длинный стол и стали накладывать себе на глиняные тарелки яичницу и простоквашу. Несколько минут ели молча. Но и Анзельм с Яном, и обе девушки ели необычно: отламывая маленькие кусочки от толстых ломтей хлеба, осторожно двумя пальцами подносили их ко рту. Изящно держали свои деревянные ложки, и их содержимое медленно опускали в рот, так же медленно и тихо жевали, после чего клали ложки на стол и лишь через несколько секунд или даже минуту снова изящно их брали и медленно несли ко рту. В этой особой, чрезмерно медлительной и изящной манере есть сказывалось привитое с детства или унаследованное опасение показаться прожорливым или невежей. Первым заговорил Анзельм. Взглянув на Юстину, он, словно что-то вспомнив, спросил:
— Вам, пани, чаю не угодно ли? Мы его редко пьем, но приготовить хоть сейчас можно.
В боковой комнатке на ольховом красном шкафу стоял небольшой самовар, и Антолька, вскочив со скамейки, собиралась было идти ставить его. Анзельм, положив ложку на стол, с довольной улыбкой смотрел на Юстину, которая держала в руках кусок черного хлеба, намазанного медом. Юстина почувствовала на себе взор Яна и повернула голову в его сторону. Анзельму пришлось повторить свой вопрос.
— Кажется, после прогулки нам нечего жаловаться на аппетит, — медленно сказал Ян. — Может быть, дело и без чаю обойдется?..
— Конечно, обойдется! — рассмеялась Юстина.
— Я теперь и на сестру не сержусь, что она сама полезла в улей за медом.
Он засмеялся так, как смеются счастливые люди, — без всякой видимой причины, громко, искренно, и погладил по голове сидевшую с ним рядом Антольку, потом взял ложку, зачерпнул молока и медленно понес ко рту. Рука у него была большая, загорелая, с широкой ладонью и длинными тонкими пальцами.
В этот день пан Анзельм был необыкновенно оживлен, разговорчив, и пытливый глаз надолго бы остановился на этом болезненном, изможденном человеке, который теперь под влиянием только ему одному известных чувств любезно и предупредительно занимал свою гостью. Вот этот еще не заживший красный шрам… Вероятно, пани поранила себе руку серпом? Юстина утвердительно кивнула головой.
— Тяжелая работа, да? Но все это от привычки зависит. Я только не знаю и очень сомневаюсь, чтоб особа, которая так хорошо играет на фортепиано, могла привыкнуть к грубым занятиям.
Он часто слыхал ее игру, когда проходил по берегу реки или переправлялся на другую сторону.
— Сладкая музыка, — усмехнулся он. — Уши ласкает и в сердце проникает. Это правда, но правда и то, что по целым дням стучать по клавишам, может быть, не меньшая работа, чем жать и косить.
На дворе послышалось мычанье коров; девушки вскочили и торопливо начали убирать со стола. Потом Эльжуся ушла домой, Антолька же с подойником в руках выбежала через сени во двор.
Солнце уже закатилось, в комнате царил сероватый полумрак. Ян зажег лампу на комоде и заявил дяде, что пойдет посмотреть, задал ли в его отсутствие работник корму скотине и лошадям. Анзельм и Юстина остались одни.