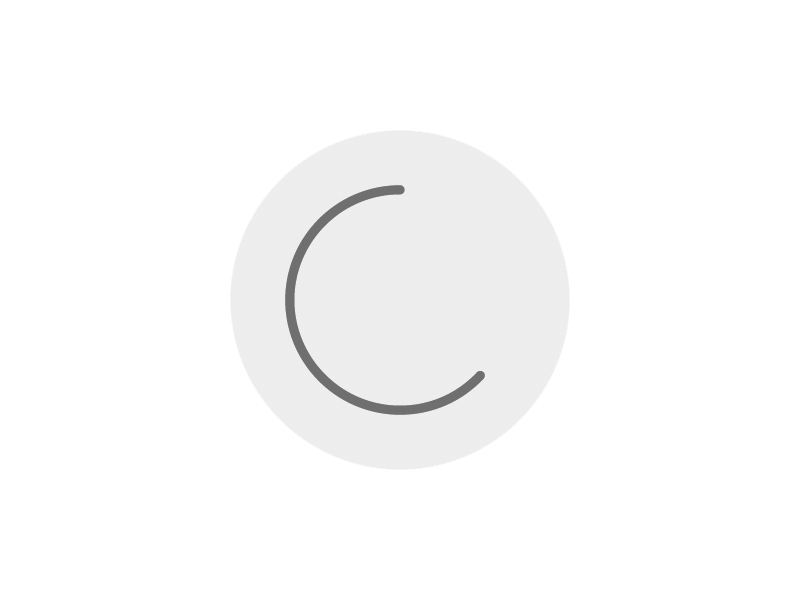Графиня Козель. Часть вторая, глава III
Есть люди, в которых несчастье других вызывает не участие и не сожаление, а только одно любопытство. Такова была известная нам по этой повести госпожа Глазенапп.
Опала, постигшая графиню Ко́зель, возбуждала в ней неутолимое любопытство, которому она не в силах была противиться, и в один прекрасный день она явилась к пильницкой затворнице. Баронесса имела немало оснований опасаться, что графиня ее не примет, поэтому стала заглядывать в окна и, заметив в одном из них Анну, постучала:
— Здравствуй, здравствуй, мой дорогой дружок! Моя милая графиня, не прячься, мой ангел, я знаю, что ты не совсем доверяешь моим чувствам; Бог тебе простит это, и я прощаю. А теперь я к тебе и с самыми добрыми намерениями и с самыми интересными новостями, и потому ты должна пустить меня к себе!
После такого натиска некуда было деться, и баронесса была принята. Вертясь перед зеркалом и поправляя свою растрепанную в дороге прическу, докучливая гостья тотчас же затараторила:
— Я хотела доказать тебе, что у меня есть сердце, и хотя я знаю, что мне в этом отказывают, но поверь, что это неправда. Мне так надоели все интриги столицы, что я завидую твоему уединению! Чтобы жить при нашем дворе, надо с ума сойти, а здесь в Пильнице так тихо и мило, что тебе, чай, совсем было бы хорошо, если бы только тебя здесь оставили в покое. Но этого-то, я думаю, и нет: эта мерзкая Денгоф готова бы тебя и отсюда выгнать.
Графиню покоробило.
— Право, — продолжала Глазенапп, — ведь этой скверной бабенке все мерещится, что ты ее подстрелишь. Ей и конвой дали для охраны, как же, подполковник Хатира и шесть кавалергардов оберегают ее от твоих покушений. Ничего, я думаю, что эта гвардия ей не была бы противна даже и в том случае, если бы она ничего не боялась. Ты знаешь, ее пока поместили у Фюрстенберга, а потом построят для нее дворец. Только не запоздала бы постройка окончиться после конца ее царствования.
— Да ведь там есть готовый дворец!
— Какой это?
— В котором жила я.
— О! Тот, мой друг, уже предназначен для курфюрста. Да никакой дворец ей и не понадобится: рассказывают, что на одной из вечеринок, которыми их тешит Фюрстенберг, король, сильно подпивши, уже раз порядочно оттрепал эту свою милую даму и назвал ее таким мерзким именем, которого она и на самом деле заслуживает… Впрочем, она таким обращением не огорчается, она так добра, понимаешь, что ни за чем не постоит.
Глазенапп нагнулась к лицу Анны и, приложив к губам палец, добавила:
— Король ужасно изменяется, в нем совсем не стало прежней веселости; постоянно суров и… зол.
— В отношении меня… это, кажется, так, — проговорила Ко́зель.
— Ну да, в отношении тебя нечего и говорить, но тут это совершенно естественно! Сильная любовь никогда не кончается иначе, как ненавистью, а он и со всеми-то стал страшно жесток и несправедлив. Я думаю, ты слышала, что случилось с Яблоновским?
— Я ни о ком и ни о чем здесь не слышу, — отозвалась Ко́зель.
— Да, но ты ведь все-таки знаешь, однако, как много обязан был Август гетману, а особенно галицкому воеводе, который склонил гетмана на его сторону; а как ты думаешь, что теперь с этим воеводой? Он сидит в Кёнигштейне, в комнате Бейхлинга!
Ко́зель посмотрела на свою гостью с непритворным удивлением, а та продолжала:
— Да-да, его взяли в Варшаве из того самого дома, где он уговаривал отца перейти на нашу сторону, и вдобавок арест этот пришелся в тот самый день, в который, год тому назад, они выезжали на границу приветствовать курфюрста.
— Это просто невозможно! — воскликнула Ко́зель.
— Да, и я готова была бы говорить, что это невозможно, но тем не менее это уже случилось, — продолжала гостья.
— Что же сделал этот воевода? — спросила Ко́зель.
— Говорят, что в то самое время, когда король упрочивал себе Денгоф, этот прямой человек на съезде этих бритых польских голов заговорил, что король подает дурной пример в семейной жизни и портит нравы в Польше, как испортил их в Саксонии. С их точки зрения, он выходил будто бы государственным преступником… Вообрази себе, король — государственный преступник! — воскликнула Глазенапп. — Как тебе это кажется? О, неоцененный Яблоновский! Говорят, что он таким образом заговорил в пользу Лещинского, который, по крайней мере, не развращал их жен. Августа, разумеется, огорчило более всего то, что ему мешали свободно тешиться с его Денгоф. За Яблоновским установили шпионство, перехватили какое-то его письмо, взяли какого-то писаря, который Бог весть что напутал на допросе, и король нашел достаточную причину без всякой церемонии и без всякого суда посадить Яблоновского в Кёнигштейн.
Ко́зель слушала равнодушно.
— Сообрази же теперь, моя дорогая, — докончила Глазенапп, — если не церемонятся с воеводами, то что же значим мы, бедные женщины, когда мы больше не нужны, и от нас хотят избавиться?
Рассказ баронессы Глазенапп произвел на Ко́зель сильное впечатление. Воевода галицкий в Кёнигштейне и посажен туда без суда, притом за польское дело, а заключен в Саксонии… Все это действительно было тогда как-то необыкновенно и обозначало в самовластии Августа какую-то новую фазу; но Глазенапп переменила тон и перешла к веселым сплетням. Она сообщила, что Денгоф никто не видит на придворных балах, вероятно, потому, что она никак не осмелится быть представленной королеве. Поэтому, продолжала рассказчица, маскарады стали гораздо чаще, чем балы. Короля, впрочем, также нигде почти не видно, потому что он все еще ею занят и сидит с ней. На одном ужине Киан, как я слышала, вместо того чтобы провозгласить тост за здоровье короля, пригласил всех к молебствию, чтобы Господь соблаговолил освободить Августа из польского плена.
На губах Ко́зель скользнула улыбка.
— На другой же день, — прибавила Глазенапп, — кто-то подхватил остроумную выходку Киана и прибил к Георгиевским воротам и к костелу воззвание ко всем христианам о молитвах за Августа. Король, как я слышала, очень над этим смеялся, однако приказал отыскать того, кто это сделал… Но вряд ли, конечно, найдут.
Неутомимо сплетничая до самого обеда, баронесса осталась здесь и откушать, а потом пожелала посмотреть сад и старую липовую аллею, где под открытым небом ею снова овладела откровенность.
— Все вы считаете меня злой интриганкой, — заговорила она, — и это отчасти правда, но только отчасти: я действительно люблю отомстить моим врагам, но зато кто мне сделал какое-нибудь одолжение, я это ценю и помню, а ты была добра ко мне, и я за то открою тебе очень важный секрет…
— Нужно ли это? — спросила, слегка наморщив лоб, Анна.
— Да, это для тебя очень важно. У тебя хотят отнять бумагу…
— Какую бумагу? — с показным спокойствием спросила графиня.
— Ну, перестань притворяться, ты очень хорошо знаешь, в чем дело, потому что за этой бумагой к тебе присылали сюда Ватцдорфа. Так вот знай, что в случае твоего несогласия отдать ее добровольно бумага будет взята насильно.
— Очень благодарна за предупреждение, — отозвалась Ко́зель, — но только все это напрасно, потому что такой бумаги, какой от меня добиваются, у меня нет.
— Где же она?
— Где она? — переспросила, улыбнувшись, Ко́зель.
— Да.
— Тебе хотелось бы это знать?
— Да, то есть, так… разумеется, если ты хочешь мне это сказать.
— Отчего же, я отвечу откровенно. Бумага, о которой вы хлопочете, находится в очень верных руках. Надо признаться, что я ведь этого давно ожидала и приняла свои меры.
Глазенапп посмотрела на графиню долгим, пристальным взглядом, как бы желая прочитать на ее лице, правду ли она говорит; но Ко́зель казалась очень искренней и спокойной. Она, конечно, понимала, что баронесса Глазенапп для того к ней и пожаловала, чтобы, начав с простых сплетен, выпытать кое-что о бумаге. С этим ответом баронесса и уехала назад в Дрезден.
Проводив глазами экипаж баронессы, графиня тотчас же приказала позвать к себе Заклика.
Опасаясь быть подслушанной в своем собственном доме, она вышла с ним в сад, как будто для некоторых хозяйственных распоряжений, и сказала:
— Я подозреваю, что нас здесь окружают шпионы.
— В этом и сомневаться нельзя, графиня, я ни за кого в доме не поручусь, — отвечал Заклик. — А хуже всех Готлиб; я уверен, что он доносит обо всем, что тут делается. Впрочем, он человек недалекий, и его ничего не стоит провести.
— Готлиб? Возможно ли, чтобы он за мной шпионил! — воскликнула графиня.
— Это вы потому так думаете, что он более всех лезет к вам со своей преданностью? Не верьте ему, это все притворство, с тем чтобы вкрасться в доверие.
— Скажите мне, Заклик, вас в городе все знают? — тихо спросила графиня.
— Ну, как вам доложить, может быть, многие уже и забыли; да ведь если вам угодно меня послать с каким-нибудь поручением, для которого надо, чтобы меня не узнали, то ведь можно так сделать, что и не узнают.
— Как это?
— Что же, — отвечал, слегка улыбнувшись, Заклик, — можно лицо-то и того… как актеры делают…
— Подрисовать, загримироваться?
— Да, отчего же, я это могу.
— А можете ли вы там достать нам верного языка?
Заклик пожал плечами и отвечал:
— Если нужно, так, разумеется, надо найти.
— Да, мой добрый Заклик, теперь это нужно, — сказала, понизив тон, графиня. — Здесь мне более уже совсем не безопасно и мне теперь одно спасение — бежать; вы должны мне помочь в этом, и я вам одному только верю и на вас на одного надеюсь.
Заклик промолчал.
— Что же вы молчите? — спросила нетерпеливо Анна.
— Трудно это будет сделать, — проворчал Заклик и сейчас же добавил: — Но, разумеется, если необходимо, то… разумеется…
— И это еще не все, — прервала графиня, — я должна спасти драгоценности, потому что они составляют все мое состояние.
Заклик только потер себе лоб и опустил глаза.
— Что вы мне на все это скажете? — спросила графиня.
— Все, что только в человеческих силах, я сделаю, — отвечал Заклик и задумчиво добавил: — Одно жаль, давно бы это следовало сделать. Ну, да что не сделано, о том уже нечего говорить.
— Сегодня ночью, — продолжал он, как бы погруженный в глубокую думу, — я поеду в город. У меня в кустах, у острова, есть лодка, я на ней и поплыву, и все, что можно, разузнаю, соображу, подготовлю и возвращусь.
— Хорошо.
— А вы не требуйте меня к себе, пока я сам не явлюсь к вам, комната моя будет заперта, и люди будут уверены, что я там для чего-нибудь затворился. Пока я больше ничего не могу придумать. Вон Готлиб, это он за нами шпионит.
— Ага, это в самом деле, кажется, так. Ну и прекрасно, идите и делайте, как вы сказали, а этого шпиона надо одурачить.
— Эй, Готлиб! Готлиб! Подите-ка сюда, — закричала она, отпустив Заклика и, когда немец приблизился, сказала: — Этот сад можно было бы привести в порядок, но этот поляк так бестолков, что ничего не может понять. Сколько я ему ни толковала, он меня только вывел из терпения.
Готлиб укоризненно покачал головой.
— Я вас очень прошу, чтобы вы нашли мне в городе хорошего садовника.
— Слушаю, графиня.
— И приведите его сюда.
— Приведу, графиня.
— Только хорошего.
— Самого лучшего, ваше сиятельство.
— Чтобы был и садовник, и цветовод.
— И садовник будет, и цветовод.
— Благодарю вас, я знаю, что вы все это отлично устроите.
— О, не беспокойтесь, ваше сиятельство… так устрою, что…
Но видя, что графиня удаляется, он только поклонился ей вслед и, окинув надменным взглядом Заклика, гордо пошел в свое место.
Когда темная ночь спустилась на окрестности, Заклик отвязал тихонько свою лодку, впрыгнул в нее, оттолкнул ее от берега и поплыл вниз по течению, к Дрездену. В ту пору по Эльбе почти не было никакого движения, и надо было хорошо знать реку, чтобы не попасть на бесчисленные мели и каменья. Но Заклик их не боялся: ему они были неопасны, потому что в то время, когда он, еще ничем не занятый, бродил по окрестностям Дрездена, он часто плавал по Эльбе и знал ее, как свои пять пальцев. Поэтому его нимало не пугала темная ночь, и он благополучно спустился к Дрездену. Сначала он увидел огоньки в домах раскинутых по берегам реки предместий, а потом перед ним засветило зарево, стоявшее над ярко иллюминованным замком.
В городе у Заклика, конечно, было много знакомых, но не ко всякому из них он мог теперь прийти, и потому голова его была занята соображениями: где бы ему приютиться и кому довериться?
Из числа людей, с которыми он был более или менее близок, были два еврея, один Леман Берендт, другой Иона Мейер; к ним часто обращались по устройству займов, в которых беспрестанно нуждался роскошный и нерасчетливый двор Августа.
Мейер был еврей европейского пошиба, он был родом из Гамбурга и приехал в Дрезден в 1700 году, в самом начале царствования Августа, и, поселясь в Дрездене, завел здесь первую меняльную лавку и банк. Нуждавшийся в его услугах король дал ему дом, который прежде назывался «старой почтой», а потом стал известен под названием «еврейского дома». Этот Мейер, разбогатев, выстроил дворец, развел при нем сад, а в первом этаже самого дома устроил несколько роскошных зал, в которых нередко задавал своим клиентам не менее роскошные балы и маскарады.
Товарищ его Леман Берендт был совсем другим: он родился в Польше, был блюстителем отчей веры и хранил в себе типические черты, свойственные старожитным надвислянским евреям; он был скромен, расчетлив, тих, обстоятелен и умен. Ко́зель имела с ним дела, и Заклику казалось, что он мог рассчитывать на некоторое доброжелательство этого человека. Он к нему и решился обратиться, если не рассчитывая на его прямое содействие, то, по крайней мере, надеясь получить от него добрый совет.
Оставив лодку у хибары одного знакомого венда, которые в то время еще не исчезли в Дрездене, посол Анны Ко́зель завернулся в плащ и, надвинув шляпу, начал пробираться по улицам города к дому, где жил Леман. Час был уже довольно поздний, но по движению на улицах легко было догадаться, что в замке происходило большое пиршество. Издали блестевшая над садом Гесперид в Звингре иллюминация убеждала в этом еще более: король давал маскарад для своей Денгоф. Маскарад был при факелах, и толпы народа стремились туда густыми потоками.
Пробираясь в тени под стенами, Заклик, никем не узнанный, благополучно достиг знакомыми переулками дома на Пирнейской улице и постучал в двери небольшой квартирки в задней части здания. Ему отворила старая кухарка и, впустив посетителя, кликнула Лемана, который, не увлекаясь любопытством, возбуждаемым королевским пиром, сидел один у себя дома, читая Библию или сводя свои счеты. Выйдя по зову кухарки в сени и узнав неожиданного гостя, он удивился, но ничем не выразил удивления и провел Заклика в кабинет.
Леман был очень красивый пожилой мужчина с проседью в волосах, но с замечательно свежим лицом семитского типа. Черные глаза его смотрели спокойно и рассудительно, но в них были свой внутренний огонь и приятное выражение.
Заметив, что Заклик оглядывается с некоторой особенной осторожностью, он сжал его руку и сказал по-польски:
— Здесь, пан Заклик, вы в безопасности.
— Я так и надеялся, — отвечал Заклик.
— Да, если нужно, то у меня вас никто не увидит.
— Ах, это мне очень нужно, господин Леман.
— Ну и прекрасно, вот кресло, садитесь и рассказывайте, что у вас делается, и чем я могу служить.
— У нас все плохо, пан Леман, — отвечал Заклик. — Сначала графиню выгнали из дворца, потом из наемного дома, потом выгнали совсем из Дрездена, а теперь уже идет дело о том, чтобы выгнать нас и из Пильницы, да еще, Бог знает, удовольствуются ли и этим…
— Так, так, — проговорил раздумчиво еврей.
— Да, несчастную графиню преследуют немилосердно.
— Так, так, когда же преследования бывают милосердны?
— Это правда, господин Леман, но утешения в этом мало.
— Немного, пан Заклик, немного.
— Ее надо спасти, пан Леман.
— Гм!
— Я за этим сюда и приехал, пан Леман.
— Так, так, — процедил Леман, поправляя на голове свою черную ермолку, — спасти, да… однако, и себя, конечно, не губить.
— Да, если можно это так уладить… — отозвался Заклик.
— Уладить!.. Так, так, уладить… да!
— Графине остается одно: бежать!
— Так, да, бежать! А куда бежать, пан Заклик? Что? Бежать за море! Тут все цари и короли по-соседски беглых друг другу выдадут.
— Э, пан Леман, да за нами теперь вряд ли отсюда и погонятся!
Леман покачал головой.
— Вот где затруднение, — продолжал верный слуга, — графине нельзя бежать с пустыми руками, она должна спасти от расхищения свое добро.
Банкир потихоньку утвердительно кивнул головою.
— Но опасно взять все с собою!.. Что, если мы попадемся в руки наших врагов?
— Ай, что это будет! — воскликнул, схватившись за голову, еврей.
— Подумайте о нас, пан Леман!
— Ах, что тут думать, что тут думать, сколько ни думай, ничего, пан Заклик, не выдумаешь.
— Однако…
— Поверьте, ничего нельзя выдумать; я люблю графиню и рад бы помочь ей, да ведь… ничего нельзя, ничего нельзя… Не погубить же мне себя и семью свою… И все будет напрасно, все напрасно!
— Ничего не надо губить, пан Леман…
— Да?
Еврей поднял на него глаза и смотрел, ожидая окончания мысли.
— Мы не просим от вас никакого риска…
— Так, так, это вы хорошо говорите, пан Заклик. Чем же я могу служить вашей доброй графине?
— Одной вашей честностью.
— Честностью? Я вас не выдам, пан Заклик, не выдам, и тайны вашей не выдам!
— А если я привезу и сдам на ваши руки драгоценности графини?
— Все, что вы вверите мне, я сберегу и пришлю вам туда, куда вы мне укажете.
— Это все, что нам от вас нужно! Ну, так и дело кончено! Давайте вашу руку, пан Леман!
— Вот вам моя рука! А теперь дайте-ка мне достать вот тут в шкафу бутылку вина, да разопьем ее за добрый успех вашей затеи. Стакан вина вам с дороги теперь, я думаю, не помешает?
Леман достал из шкафа бутылку, налил в стаканы, и оба собеседника чокнулись и снова сели.
— Ну, теперь скажите мне, что же здесь нового? — спросил Заклик.
— У нас здесь что было, то и есть, здесь всегда одни порядки, — отвечал осторожно Леман.
— Ну, однако же, говорят, король влюблен?
— Влюблен? — как бы удивился Леман. — В кого влюблен?
— А в Денгоф!
— Ах! Да, Денгоф! — воскликнул Леман. — Ну, что про бедняжку говорить! Пусть собирает себе, пока время есть, деньжонки да цацки, а то скоро ее замуж выдавать будут, тогда это ей пригодится.
— За кого же вы ее готовите?
— Я? — еврей сделал гримасу и добавил: — Говорят, что сестру ее сватают за Фризена, а ее… Право, не знаю, за кого… Да не все ли равно, возьмет ее и Гакстгаузен, возьмет и француз Безенваль.
— Ну, а еще что нового, пан Леман?
Леман пожал плечами и отвечал:
— Ничего: люди меняются, а гадости все те же.
— Ну, от вас, видно, не много узнаешь! Надо пойти понюхать, чем пахнет в других местах.
— Подите, подите, понюхайте, но только смотрите, чтобы вас не видели, как вы ко мне приходите и от меня уходите.
— О, за это не беспокойтесь!
— То-то; а то ведь тогда все будет испорчено, и я вам ни на что не буду пригоден.
— Не беспокойтесь, пан Леман, не беспокойтесь: я буду скользить, как тень.
— Да, и чтобы вы более походили на тень, я вам дам ключ от особой двери, через которую вы можете входить и выходить так, что вас не увидит никто из моих домашних.
— Это более чем нужно, пан Леман. Благодарю вас и прощайте!
— Прощайте! Вот вам ключ от дверей и еще один добрый совет — быть осторожнее.
— Благодарю и беру и то и другое. Прощайте!
Леман сам посветил гостю и выпроводил его за двери.
***
Снова плотно закутавшись в плащ, Заклик зашагал по улицам; он держал путь к Звингру, где хотел, замешавшись в толпу, посмотреть, что там происходит. Заклик был твердо уверен, что его не узнают, но, как ниже увидим, он ошибся в этом расчете. Едва он дошел до Замковой улицы, как кто-то ударил его по плечу. Удивленный Заклик обернулся и увидел Фрёлиха; старый шут стоял возле него и усмехался.
— Ага! Как это вы узнали меня, господин Фрёлих? — спросил Заклик.
— Не мудрено узнать, здесь других таких широких плеч, исключая короля, ни у кого нет, — отвечал Фрёлих. — А что такое вы, почтенный Унглюк, тут делаете? Я вас считал в штате той… оставшейся за штатом…
«Ах ты коварный урод!» — подумал Заклик и быстро отвечал:
— Да, я был в ее штате, господин Фрёлих, а теперь из него вышел.
— Что же так?
— Да что делать; знаете, когда корабль тонет, мыши с него спасаются вплавь.
— Это благоразумно делают мыши, очень благоразумно, господин Унглюк, — отвечал Фрёлих, — свою шею всегда не мешает немножко поберечь. Ха! Ха! Да, это благоразумно, пускай каждый спасает себя, как знает. Ну, так теперь что же, вы, значит, опять возвращаетесь на службу к королю? Или, быть может, служите уже у Денгоф?
— Нет, еще не служу, — возразил Заклик, — я, признаться, ведь совсем не знаю, что она за особа.
— Что за особа? — повторил Фрёлих. — Особа невеличка, как тот постельный зверек, который скачет и кусает.
И Фрёлих начал было хохотать своим дребезжащим смехом, но вдруг закрыл себе рот и умолк, завидя приближавшегося к ним испанца в маске. Заклик хотел удалиться, но маска заглянула ему под шляпу и, схватив за руку, проговорила:
— Что ты тут делаешь?
Немного растерявшийся Заклик отвечал то же самое, что он сказал Фрёлиху:
— Я пришел сюда в город искать службу.
— Вот что! А что же твоя госпожа, разве она тебе надоела?
— Да какая она теперь госпожа? Она так живет, что не нуждается больше в слугах.
— Ну, пойдем поговорим, может быть, я тебе и помогу найти хорошую службу.
— Сделайте милость!
— Пойдем!
Испанец потащил его за собой.
— А какую бы ты, например, желал службу?
— Я дворянин и потому желал бы службу дворянскую, службу при сабле.
— Вон что! А ведь у Ко́зель ты служил не при сабле?
— То было другое дело.
— Другое; ну хорошо, пойдем со мной.
— Куда?
— Вот уже сейчас и сказать тебе, куда! Что, ты меня боишься, что ли?
— Нет, не боюсь, — отвечал Заклик, и они пошли.
По направлению пути он догадывался, что незнакомец ведет его как будто к Флеммингу. Это так и было.
Несмотря на происходивший в Звингре маскарад, Флемминг был дома, двери его были открыты, и у него была куча маскированных гостей, которые приходили, угощались у открытых буфетов и уходили. Некоторые, впрочем, так плотно нагрузились, что не вставали с мест: говорили, что Флемминг ожидает к себе короля; но пир не мешал и делу.
Едва испанец, отыскав хозяина, шепнул ему на ухо несколько слов, генерал тотчас же встал и проворно направился к дверям; здесь он поманил за собою Заклика и привел его в отдельный кабинет, где все было тихо; на столе лежали множество бумаг, и какой-то молодой человек что-то сочинял или переписывал. Флемминг отошел с Закликом в темный угол и, сев в кресло, резко спросил Заклика.
— Когда ты бросил службу у Ко́зель?
— Я оставил графиню несколько дней назад, — отвечал Заклик.
— Чем она занимается?
— Устраивается в Пильнице…
— Что, она думает там оставаться или нет? — спросил Флемминг.
— Должно быть, думает оставаться.
Флемминг молча взглянул на испанца и продолжал свой допрос.
— Как ты расстался со своей бывшей госпожой?
— Меня выгнали, — солгал Заклик.
Флемминг и испанец снова переглянулись.
— Чем же ты перед нею провинился?
— Ничем не провинился; а так, она во мне больше не нуждается.
— Гм! А ты хорошо знаешь Пильницу?
— Еще бы не знать!
— И людей тамошних знаешь?
— Всех знаю.
— И знаешь и дороги и окрестности?
— Да как же не знать?
— Отлично! И ты хотел бы снова служить?
— Почему же нет? Бедному человеку без службы жить нельзя.
— Но если бы тебе дали службу, которая требовала, чтобы ты шел против своей прежней госпожи?
— Что же мне такое теперь моя прежняя госпожа? Я не имею ни госпожи, ни господина, кроме короля, которому обязан верностью как дворянин польский.
Флемминг потрепал его по плечу и сказал:
— Ты хорошо рассуждаешь и за то будешь устроен; приходи ко мне сюда через два дня! Понимаешь?
— Слушаю и понимаю, — отвечал Заклик и, уклоняясь от принятия монеты, которую ему совал в руку Флемминг, поклонился и вышел.
Дело радовало бедного парня: он надеялся теперь попасть в самую живую струю интриги — все разведать, все перепутать и спасти свою графиню. Два дня, данные ему Флеммингом, он решил употребить на то, чтобы побывать в Пильнице и сообщить обо всем, что нужно, графине.
Выйдя от Флемминга, он тотчас же, не теряя времени, сел в свою лодку и, сильно работая веслами, явился в Пильницу прежде, чем наступавшее утро разбудило двор опальной графини.