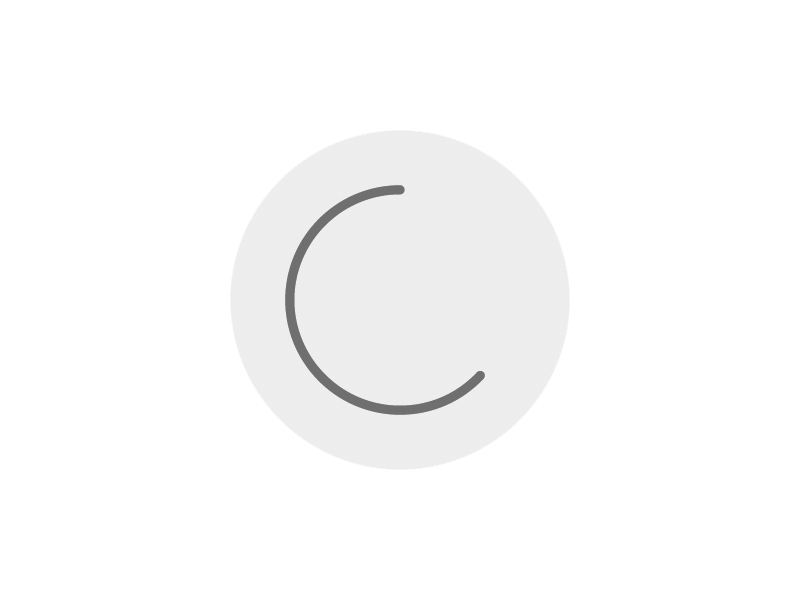Графиня Козель. Часть вторая, глава II
Решившись во что бы то ни стало увидеть короля и лично защитить перед ним свое дело, графиня Ко́зель пустилась в путь с небольшой свитой из своих людей. Они ехали почти без отдыха, заботясь о том, чтобы весть о ее выезде не опередила ее прибытия в Варшаву.
Заклик сопровождал графиню. Хмурый, сосредоточенный на положении своей госпожи, он в молчании ехал всю дорогу возле кареты. Он теперь был для нее более, чем слуга: он хранил ее тайны.
Перед выездом из Пильницы графиня позвала его к себе и сказала:
— Слушайте, Заклик, меня все оставили, около меня нет ни одного человека, на которого я могла бы положиться.
— Вы на меня можете положиться, — коротко отвечал Заклик.
Она взглянула на него и спросила:
— Вы меня не покинете?
— Никогда! — отвечал он.
— Я вам верю.
Заклик торжественно поднял вверх два пальца и, как бы присягая, твердо проговорил:
— Клянусь!
— Хорошо, я должна доверить вам все, что имею самого дорогого. Обещайте мне, что вы разве только вместе со своей жизнью отдадите то, что я вам вверю.
— Это так будет, — ответил Заклик и снова клятвенно поднял вверх руку.
— Об этом никто не должен знать!
— Никто не будет знать, графиня.
— Но вам я должна открыть, что именно вы будете беречь.
— Разве это нужно, чтобы я знал?
— Да, это нужно.
— В таком случае, как вам угодно, я буду нем, как рыба.
— Слушайте, несколько лет назад, когда король развел меня с мужем, он выдал мне письменное обещание, скрепленное его печатью, что в случае смерти королевы он на мне должен жениться. Понимаете?
— Как нельзя лучше, графиня.
— Я всегда берегла эту бумагу у себя, но теперь… я опасаюсь…
— Вы хорошо делаете, что опасаетесь.
— Они могут ее у меня отнять.
— Могут, графиня.
— Когда они не найдут у меня этой бумаги, они могут ее требовать, могут допытываться, где она, но я им этого не скажу. Они, может быть, прибегнут и к пыткам, но и пытками не заставят меня сказать, куда я ее дела. Но куда же я ее спрячу? Замуровать ее в стену, но меня могут изгнать из Саксонии, и тогда бумага эта для меня навсегда пропала…
— Отдайте ее мне.
— Да, я вам отдам ее.
И выговорив это, Ко́зель вздохнула и, открыв выложенную серебром и слоновой костью шкатулку, вынула оттуда золотую коробочку, а из коробочки кожаный мешочек с печатями и шелковым шнурком.
— Вот, — сказала она, — возьмите и помните, что я вам все мое вверила!
Заклик упал на колени и в глазах его заблестели слезы; он поцеловал руку графини и взял мешочек, спрятал его на груди.
— Теперь едем! — сказала Ко́зель. — Я не знаю, что может с нами случиться дорогой, но на всякий случай нам нужны деньги, вот золото, возьмите его тоже к себе.
И она подала Заклику зеленый мешок с полновесными червонцами.
И у Заклика, и у Ко́зель были при себе заряженные пистолеты.
Путешествие их шло благополучно и быстро до самой Видавы, небольшого городка на границе Шлезвига. Здесь они должны были остановиться для отдыха. Утомленная графиня приказала изготовить на скорую руку обед и заняла лучший да, пожалуй, и единственный постоялый двор. На том же дворе стояли с десяток лошадей какого-то отряда драбантов, возвращавшихся, как можно было думать, в Саксонию. Заклик занял свой сторожевой пост вблизи покоя, где расположилась графиня; но только он хотел немножко отдохнуть, как появились Монтаргон и Ла-Гайе и просили его доложить о них графине. Они сказали, что, встретившись с ней в дороге, рады были бы засвидетельствовать ей свое почтение.
Из этих людей одного графиня едва знала, а другой вовсе ей не был известен, и потому она отчасти удивилась их желанию видеться, но, не подозревая никакой опасности, велела их просить.
Она любезно приняла обоих офицеров и, так как ее обед был готов, пригласила их разделить с ней скромную дорожную трапезу, в конце которой Монтаргон и приступил к исполнению своего поручения.
Поговорив во время обеда о варшавских делах, он сказал:
— Мне кажется, графиня, что вы напрасно предприняли это путешествие. Король теперь слишком занят, и вы можете быть поставлены в неприятное положение.
Выслушав это, Ко́зель нахмурила брови и проговорила:
— А мне кажется, что я тоже достаточно знаю короля, и не думаю, чтобы мой приезд был такой большой неловкостью, как это почему-то вам кажется.
Монтаргон смешался и сказал:
— В таком случае я, разумеется, должен вас просить простить мне мою неловкость.
— Нет, я вам ее не прощу, — отвечала Ко́зель, — и не прощу именно потому, что это не столько неловкость, сколько невежливость! Я ведь не просила у вас совета?
— Не просили, графиня.
— С какой же стати вы мне его подали?
— Имел к тому очень важную причину, — отвечал, волнуясь, Монтаргон.
— При-ичину?
— Да, графиня, и как я уже смел вам доложить, очень важную!
— Прошу вас мне ее объяснить.
— Извольте, я имею поручение сказать вам это от лица его величества моего короля!
— От вашего короля?
— Точно так, графиня.
— Ну, так вы, значит, исполнили ваше поручение и все, что вам велено было сказать, мне сказали, а теперь…
Она привстала с места и добавила:
— Теперь вы можете ехать своим путем, а я поеду своим.
— О, если бы это было так, графиня! — воскликнул Монтаргон.
Анне показалось, что она ослышалась, и она переспросила:
— Что вы сказали?
— Я сказал: о, если бы это было так; я был бы весьма рад, если бы каждый из нас волен был ехать своей дорогой.
— То есть как это?.. Что вы этим хотите сказать?
— Ничего кроме того, что я был бы очень рад, если бы вы могли продолжать вашу дорогу.
— Отчего же нет?
— Вы этого не можете, графиня.
— Как не могу?
— Не можете.
— Но кто мне смеет помешать?
— Я… если…
— Если что такое?
— Если вам неугодно будет поверить моим словам и возвратиться добровольно в Пильницу.
— Как! — вскрикнула, порываясь с места, Ко́зель. — Так вы даже готовы удержать меня силой?
— Я имею на это положительный приказ короля и должен вернуть вас в Дрезден.
Графиней овладело бешенство, и она, вспомнив, что отец Монтаргона был где-то писарем, закричала:
— Вон с моих глаз, писаришка! — и с этим она выхватила пистолет. — Сейчас же вон отсюда, или я раздроблю тебе череп!
В дверях показался Заклик.
Монтаргон знал, с кем он имеет дело, и, не желая раздражать Ко́зель, поспешно встал и вышел; с графиней с глазу на глаз остался один Ла-Гайе, который, видя неудачу товарища, заговорил еще мягче:
— Напрасно гневаетесь, графиня; есть очень умная пословица, что послов не бранят и не бьют, а жалуют. С послов взыскивать нечего; они, может быть, и сами не рады тому, за чем посланы, но должны исполнять волю пославшего. Наверное, ни один из нас не счел для себя удовольствием огорчать такую особу, как вы, сообщением вам суровых королевских приказов…
— Вы видели короля? — перебила Анна.
— Видел перед самым выездом навстречу вам, куда отправился по личному его приказанию с поручением, смысл которого, мне кажется, вам должен быть ясен.
— Вам приказано не допустить меня в Варшаву?
— Я очень счастлив, что вы сами изволили это выговорить, — отвечал с низким придворным поклоном воспитанный Ла-Гайе.
Ко́зель поникла головою и смирилась. В результате вышло то, что она в Варшаве не была, а возвратилась к себе в Пильницу. Монтаргон об этом немедленно же послал известие в Варшаву, а сам с отрядом издали провожал Ко́зель до места ее почетного заточения.
***
Между тем госпожа Денгоф в Варшаве все чаще и чаще появлялась при короле. Солидные люди резко осуждали такое соблазнительное поведение замужней дамы высшего общества. Скандал представлялся тем чувствительнее, что во всей этой интриге роль помощниц играли мать фаворитки и другие ее родственники. Старопольские добрые нравы этого не переносили, и друзья отсутствующего Денгофа вызывали его как можно скорее в Варшаву; королевские клевреты старались удержать его в деревне, как некогда они удерживали прежнего мужа Анны, Гойма. Денгоф и не мог приехать, но он зато так настойчиво требовал к себе жену, что Белинская встревожилась этой столь несвоевременной настойчивостью и сама полетела к беспокойному зятю.
Теща и зять, как только свиделись, так тотчас же и объяснились начистоту.
— Я вас прошу, чтобы вы нас с дочерью оставили в покое, — заговорила Белинская. — И с чего вы это, право, выдумали ее к себе требовать? Любезный зятюшка, нам нельзя исполнять таких ваших фантазий: наши дела очень худы и их надо поправить, а в таком положении королями не бросаются. Я не буду делать из пустяков секрета: король влюблен в вашу жену и… вам ревновать ее уже поздно; а притом мы и не пожертвуем счастьем всей семьи для какого бы то ни было предрассудка. Мы, вот что, будем говорить откровенно: мы с Марысею предлагаем вам на выбор: или не мешать Марысе жить, как она хочет и как она уже живет, и за это пользоваться разными монаршими милостями…
— Гм, какими это? — перебил сухо Денгоф.
— Ну, мало ли какими? Я не знаю, чего бы вы хотели и что вам нужно, но все это мы, конечно, могли бы вам добыть у его милости короля; или же соглашайтесь на развод. Папский нунций в угоду его величеству немедленно добудет в Риме развод моей дочери.
— Да, если вы, моя почтеннейшая теща, стали уже так решительны и сильны при его милости короле, то, пожалуйста, позаботьтесь о разводе, — отвечал Денгоф.
— Как! Так вы согласны?
— А еще бы! Неужто вы думали, что делиться женою составляет большое удовольствие? Что до меня, то я, признаюсь, не чувствую к этому никакой охоты.
— Что же, и прекрасно, вы получите развод.
— Очень рад буду расстаться навсегда с вашей Марысею, и чем скорее, тем лучше.
— Нунций сделает это очень скоро.
— Очень ему буду благодарен.
Белинская не ожидала такого исхода; она была удивлена, что Денгоф так мало дорожил ее ветреной Марысей и так охотно и совершенно бескорыстно согласился на развод с нею.
Дело это тут же было решено и вскоре же исполнено почти с невероятной быстротою: Папа в угоду Августу дал желанный развод, и нунций поздравил наследницу Анны со свободой от уз брака.
Происшествие это совпало со смертью маршала Белинского, оставившего все свои имущественные дела в таком беспорядке, что дочь его, по советам матери, немедленно принялась для поправления их за королевскую кассу.
Началось это с того, что покойному отцу новой фаворитки были справлены за королевский счет самые пышные похороны, на которые охотно сбежалась глазеть чуть не вся Варшава, а потом чувствительное сердце Августа II было тронуто участью сирот покойника, и с тех пор щедроты его величества рекою полились на осиротевшее семейство. Хроника того времени гласит, что сама госпожа Денгоф была неалчна и не мастерица наживаться, но зато ее мать беспрестанно что-нибудь себе просила и всегда чрезвычайно удачно.
Между тем король Август, несмотря на вкушаемые им удовольствия новой любви, уже тяготился пребыванием в Варшаве, где не было многих его любимых саксонских удовольствий, и рвался в Дрезден. В известных сферах было решено, что за королем туда же последует Марыся Денгоф, а за нею — чада и домочадцы дома Белинских. Лица, заправлявшие вместо легкомысленной Денгоф всей ее судьбою и через нее устраивавшие свои делишки, заботились, чтобы этим переездом добыть как можно более уступок в пользу новой фаворитки. Старая же фаворитка еще казалась некоторым из них опасной. Мало того, что Анна уже была теперь осуждена на безвыездное пребывание в Пильнице; Флемминг представлял королю всю неосторожность данного им Ко́зель письменного обещания на ней жениться и настаивал на необходимости отобрать у Анны этот скандальный документ, способный компрометировать Августа если не перед современниками, то перед судом истории, которым обязаны дорожить венценосцы.
Так как план этот не был в разладе с собственными желаниями Августа, то он охотно согласился с доводами Флемминга и командировал уже известного нам «мужика из Майнсфельда» с предложением вытребовать у графини Ко́зель бумагу, которой та, как мы знаем, дорожила более всего на свете и вверила ее на сохранение Заклику.
И вот Ватцдорф снова явился к графине в Пильницу; он был теперь много опытнее и держался умнее и даже, надо признать, исполнил возложенное на него поручение с некоторой вежливостью, хотя, впрочем, без всякого успеха.
В ответ на вежливые приветствия «мужика из Майнсфельда» графиня стала жаловаться, что с нею поступают слишком жестоко, но на сделку никаких надежд не подавала.
— Я не знаю, — говорила она, — чем я заслужила все то, что переношу: мне приказывают отречься от любви; меня выгоняют из подаренного мне дворца, высылают меня из Дрездена, сажают сюда в Пильницу, не позволяют мне видеть короля и возвращают меня с полпути в Варшаву, и я всему этому покоряюсь, а ненависть не унимается. Я слышу, что там все кричат, что я зла, дерзка и мстительна; все это, конечно, для того, чтобы представить опасным мое мнимое бешенство и подготовить мне что-нибудь еще худшее… О, я ведь недаром восемь лет прожила между этими людьми: я их понимаю.
— Вот уж что правда, то правда; вы их действительно понимаете, — засмеялся Ватцдорф. — Но только знаете ли вы то, что от вас зависит одним приемом разуверить короля в справедливости всех слухов, распущенных о вашей строптивости?
— Каким это образом?
— У вас есть от короля какая-то бумажка?
Ко́зель догадалась, о чем идет дело, и сдержанно отвечала:
— И, вероятно, не одна, а очень много, любезный Ватцдорф.
— Да, но дело, собственно, об одной.
— О какой же это?
— О той, по которой он обещал на вас жениться.
— Что же, не хотите ли вы, чтобы я ее отдала вам?
— Именно, возвратите ее королю.
Ко́зель только молча на него посмотрела.
— Что вы так смотрите? — переспросил Ватцдорф. — Право, возвратите!
— Я смотрю на вас, потому что думаю: не с ума ли вы сошли?
— Я? Нет. Я все с тем же рассудком, с которым век прожил до сих пор; а вот чему вы в моих словах дивитесь, я этого понять не могу.
— Как не можете?
— Не могу, да и полно.
— Но эта бумага… это обещание…
— Пустяки.
— Она мне дороже всего на свете.
— Право, пустяки.
— Как пустяки! Это все мое оправдание и вся моя защита.
Ватцдорф захохотал во все горло.
— Чего же вы смеетесь? — спросила с обидой в голосе Ко́зель.
— Да как же не смеяться, графиня, что вы все еще повторяете эту старую песню и верите в какие-то несбыточные обещания.
— А почему они несбыточны?
— Почему? Ну, мало ли почему.
— Ну, например?
— Да есть много причин. Во-первых, наша королева жива и здорова; а во-вторых… да во-вторых, впрочем, пока ничего и не надо. Одно только заметьте, что если не исполнены условия Альтранштадтского мира, то что могут значить все другие условия, если король не захочет ими стесняться?
— Но в том-то и дело, что я считаю короля честным человеком, который не мальчик и знает, чтó он обещает и зачем обещает, я привыкла верить его обещаниям.
Она встала и начала нетерпеливо ходить по комнате.
— А по-моему, вы все не о том говорите, — сказал Ватцдорф. — Совсем не это вам нужно.
— Что же, по вашему мнению, мне нужно?
— Извольте, я вам скажу, но только совершенно откровенно.
— Говорите.
— Король вас очень жалеет… Да, он чувствует к вам признательность. Он рад бы сделать все, что может, для вашего счастья… Конечно, нельзя и не должно домогаться чего-нибудь невозможного, но любовным шуткам вроде его обещания не должно придавать такого значения, какого они никогда не имели и иметь не могут. Вы эту королевскую бумажку отдайте, а за нее потребуйте себе что посущественнее.
Ко́зель быстро повернулась к нему и спросила:
— Вы, без шуток, за ней и приехали?
— Без всяких шуток, графиня: за ней.
— Ну, так возвращайтесь назад, — отрезала Ко́зель.
— Что же, не отдадите?
— Нет, пока я жива, я никому ее не отдам! Это защита моей чести, а моя честь мне дороже, чем сама жизнь.
— Ах, Боже мой, да какая это защита? Ведь вы должны же признать, что этот документ ничего не значит!
— В таком случае зачем же вы хотите его у меня отобрать? Нет, любезный Ватцдорф, он, верно, что-то значит… Не тратьте же попусту время, а возвращайтесь туда, откуда прибыли, и скажите, что я бумагу не отдам.
С этим она холодно повернулась спиной и хотела выйти, но Ватцдорф удержал ее.
— Позвольте, графиня! — сказал он. — Подумали ли вы о всех последствиях, которые может повлечь ваш отказ? Вы ведь, может быть, заставите короля прибегнуть к самым крайним мерам.
— Так что же?
— Он может употребить силу!
— Я в этом и не сомневаюсь.
— И тогда эта в существе своем ничтожная бумага будет взята у вас.
— Пускай же попробуют!
— Чего же вы достигнете?
— Я?
Она подняла голову и с твердым спокойствием проговорила:
— Я хочу, чтобы свет знал, как гнусно была я обманута и какой предательской подлостью я доведена до нынешнего моего положения.
Из ее глаз брызнули слезы, и она добавила:
— Но знаете ли что, я еще должна вам сказать, что я даже не верю, чтобы вы все это требовали по королевской воле.
Посол вместо ответа расстегнул сюртук и, достав из кармана собственноручное письмо короля, подал его Анне.
Она пробежала листок и презрительно его отбросила.
— Что же вы на это скажете, графиня?
— То, что это для меня неубедительно.
— Как! Для вас неубедительно собственноручное письмо короля?
— Как вы, однако, странны; но разве то письмо, за которым вы приехали и которого от меня добиваетесь, тоже писано не самим королем?
— Что же из этого? — спросил растерявшийся Ватцдорф.
— А то, что если король отрекается от своего собственноручного письма, которое он писал мне с клятвой в верности своих слов, то ему не труднее будет отречься от того, которое вы носите в вашем кармане. Не тратьте же больше время и доложите, что просьбы ваши на меня не имели влияния, а угроз я никаких не боюсь и их не послушаю.
С этим она во второй раз встала и спокойно вышла, оставив посреди комнаты одного Ватцдорфа, который думал теперь, как он будет докладывать в Дрезден о своем неудачном посольстве.