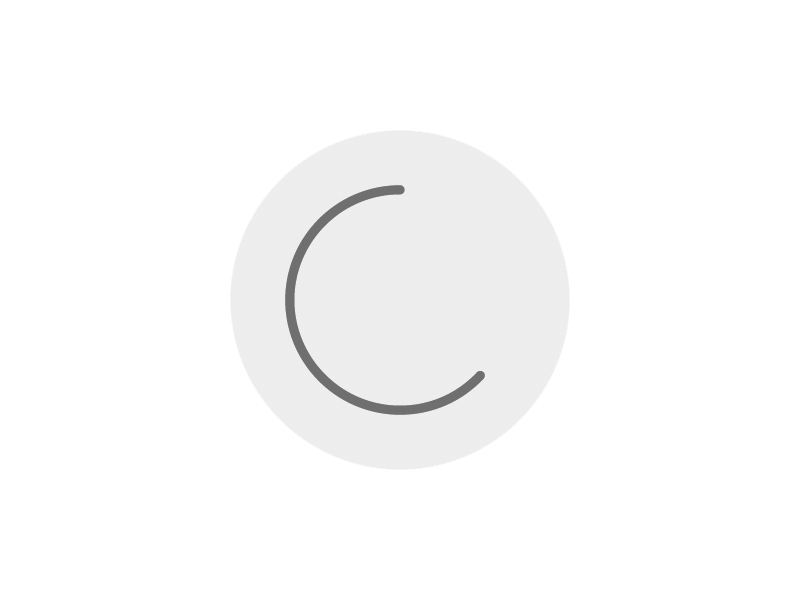Графиня Козель. Часть первая, глава X
Об утренней сцене, вероятно, никто бы не узнал, если бы этого не рассказал сам король. Он сам, сидя вечером в небольшой компании, собравшейся у него в малой придворной столовой «запивать шведа», после нескольких бокалов сказал, шутя, Фюрстенбергу:
— Ужасно жаль, что сегодня утром не ты вместо старого Бозе пришел с бумагами из Польши! Уж надеюсь, ты бы помирился с Ко́зель, если б увидел ее в том наряде, в каком она представлялась сегодня старику.
— Что ж это было? — спросил Фюрстенберг. — Ведь графиня не встает еще с кровати?
— Вот потому-то она и соскочила с нее как лежала, в одной рубашке, и устроила мне страшную сцену за бедную Генриетту. Я думаю, на свете нет женщины ревнивее. Право, я не удивлюсь, если она когда-нибудь в припадке ревности исполнит свою угрозу застрелить меня. Она не расстается с пистолетом.
Фюрстенберг потихоньку обвел глазами всех присутствовавших и, удостоверясь, что между ними нет ни одного из тайных друзей Ко́зель, а напротив, все ее недруги, отвечал:
— Что графиня так ревнует ваше величество, это, конечно, никого не удивляет, но мне кажется, при этом графиня Ко́зель и сама должна бы, по крайней мере, не давать повода ни к каким подозрениям и ревности.
Король медленно поднял голову и, сдвинув брови, холодно произнес:
— Мой любезный Фюрстенберг, кто говорит что-нибудь подобное, тот, конечно, должен заранее хорошенько взвесить свои слова и пораздумать о последствиях… Ты, конечно, сам понимаешь, что на том, что тобой сейчас сказано, останавливаться нельзя. Прошу тебя объяснить мне, как должно понимать твои намеки?
Князь снова оглянул собеседников и отвечал:
— Это в порядке вещей, государь: уж если у меня вырвалось это слово, то я не могу оставить недомолвки… Впрочем, ведь не я один, а все мы здесь смотрели на поведение графини в отсутствие вашего величества. Спросите кого угодно о том, как веселилась здесь графиня… Дворец ее всегда был полон гостей, между которыми было множество обожателей, из которых не у всех было равное счастье. Старший граф Лехерен, например, пользовался, конечно, некоторой особенной благосклонностью графини: он почти никогда не оставлял ее и частенько уходил от нее около полуночи, иногда вместе со своим братом, а иногда и совсем один.
Эти два графа Лехерена несколько месяцев назад приехали в Дрезден искать счастья при саксонском дворе. Старший был очень красив собой, с чисто королевской осанкой, человек недюжинного ума и образования. Младший, мало в чем уступавший своему брату, был мальтийский кавалер и предназначал себя к духовному сану. Двор уже видел в них опасных карьеристов, так как король весьма охотно окружал себя иностранцами, и поэтому Фюрстенберг захотел сделать их подозрительными в глазах короля, чтобы этим сразу повредить и Ко́зель, и выжить из Дрездена старшего Лехерена, выдающиеся способности которого могли открыть ему дорогу.
Август выслушал все это совершенно равнодушно, но и Фюрстенберг, и все присутствовавшие, зная, как король умел не выдавать своих впечатлений, все-таки видели, что пущенная Фюрстенбергом стрела попала в цель и нанесла рану.
— Все ты это вздор говоришь! — проговорил Август. — Это тебе просто-напросто диктует твоя злоба к Ко́зель. Ты знаешь, что она тебя не жалует, так вот и ты ей платишь тем же. Что же такого, что она принимала гостей? Неужто, по-твоему, она должна была без меня мучить себя тоской в четырех стенах? Ей было нужно развлечение, а Лехерен приятен и остроумен, вот и все.
— Государь! — возразил простодушно наместник. — Во всяком случае, то, что я сболтнул, сорвалось у меня совершенно невольно. Я ведь не донос делаю… Я пользуюсь милостивым расположением вашего королевского величества, и благосклонность графини для меня уже менее драгоценна; но как преданный ваш слуга я, конечно, скорблю, видя с вашей стороны такую преданность и сильную любовь, а с другой — такую неблагодарность.
Август нахмурился и, не тронув стоявшего перед ним бокала, встал с места.
По впечатлению, произведенному всем этим на короля, Фюрстенберг понял, что его затея проиграна.
Когда Август желал избавиться от какой-нибудь из своих фавориток, он бывал рад предлогу приревновать и даже сам подсылал к ним своих придворных, чтобы спровоцировать и обвинить в неверности, но сейчас его волнение показывало, что к Анне Ко́зель он еще неравнодушен.
В этот же день графиня совсем встала на ноги.
Не желая более продолжать вечерний пир, Август кивком головы распрощался со своими гостями и вышел в кабинет.
Фюрстенберг и придворные расстались с королем в изрядной тревоге за то, как все это разыграется.
Случилось, однако, что весь этот застольный разговор был подслушан самым преданным Анне Ко́зель человеком, именно Закликом, которого графиня послала к королю с запиской. Не смея прерывать пирушку, Заклик, имевший свободный к королю доступ, выжидал за большим буфетом удобной минуты, когда ему можно будет передать королю конвертик. Тут он и услышал, что Фюрстенберг рассказывал о Лехерене.
Опасность, угрожавшая Анне, придала Заклику находчивости и смелости. Он решил, что ему теперь отнюдь не должно показываться его величеству, и потому, не отдавая ему записку, осторожно выбрался из столовой и, побежав назад, домой, постучался в спальню графини.
Ко́зель хорошо знала преданность Заклика. Поэтому, когда он вошел к ней с бледным лицом, она тотчас же поняла, что случилось что-то необыкновенное, и, вскочив с места, воскликнула:
— Что такое? Говори скорее, что случилось с королем?
— С королем ничего не случилось, — отвечал Заклик, — и я, быть может, виноват, что позволил себе вернуться… Но то, чему я был свидетелем, то, что я слышал… мне кажется, я должен был все это сейчас же сказать вам…
И вслед за тем он торопливо, дрожащим голосом передал Анне, слово в слово, весь разговор Фюрстенберга с королем. Графиня Ко́зель выслушала его с пылающим лицом; это ее оскорбило и взволновало. Она взяла из рук Заклика свою записку и отослала его. Сама не зная для чего, она оставила спальню; Анна прошла в огромную залу. Хотя в тот вечер не было никакого приема, однако зала была освещена, как обычно. Стены ее были увешаны портретами Августа II и картинами, представлявшими разные сцены из его жизни. На одной из них была представлена его коронация.
Графиня Ко́зель остановилась на минуту перед этой картиной, как вдруг до ее слуха долетели знакомые шаги. Это шел Август. Он был, очевидно, очень взволнован и, увидев графиню, заговорил с иронией:
— Вот чего я никак не ожидал: графиня Анна Ко́зель смотрит на мое изображение!
— Что же тут удивительного, государь? — ответила спокойно графиня. — Мне кажется, гораздо удивительнее было бы, если бы Анна Ко́зель смотрела на чье-нибудь иное изображение.
— Да, да, — перебил ее дрожащим, нервным голосом король, — до сих пор я этому верил! Я думал… я полагал… Но наружность бывает обманчива, а причуды женщин непонятны…
Голос короля и очевидный гнев его обрадовали Анну. Она видела, что им овладела ревность, доказывавшая, что в его сердце жила любовь к ней. Однако графиня прикинулась оскорбленной.
— Я не понимаю вас, государь! — с достоинством сказала она. — Что значат эти темные слова? Не думаю, чтобы я могла дать какой-нибудь повод к ним! Не будете ли вы милостивы говорить яснее? Тогда я, по крайней мере, буду знать, в чем мне оправдываться или чем доказывать свою невинность.
— Оправдываться? Доказывать свою невинность? — резко прервал король. — Нет, есть дела, в которых нет оправдания! Вот такие-то дела вы и надеялись от меня скрыть?! А между тем я имею доказательства…
— Доказательства?! Против меня?! Что такое? Во сне или наяву я это слышу? Мой Август, будь добр, рассей эти грезы! Говори скорее, давай сюда твои доказательства!
И с этим она подошла к нему и обняла его шею. Август хотел отстранить ее, но она в это время зарыдала. Это произвело свое действие, и Август начал смягчаться. Анна усадила его рядом с собой и заворковала:
— Мой Август, объясни же, что тебя так рассердило? Что вызвало твой гнев и подозрения? Ты видишь, что со мною делается… Я с ума схожу!.. Скажи мне!.. Открой!.. Или я стану думать, что ты вовсе уже не любишь меня, а ищешь только предлога, чтобы избавиться от меня!
— Хорошо, — сказал Август, — если ты непременно все хочешь знать, изволь, я скажу тебе все… Я сейчас из замка, где разговаривал с Фюрстенбергом…
— А! С Фюрстенбергом!.. В таком случае я ничему не удивляюсь, это мой враг!
— Да, но Фюрстенберг сказал мне, что весь город знает о ваших отношениях с Лехереном.
— С Лехереном! — воскликнула, смеясь, Ко́зель.
— Да, да, именно с Лехереном! Говорят, что он даже не давал себе труда скрывать свое чувство к вам! Говорят, что в мое отсутствие вы принимали своего возлюбленного каждый день и что он просиживал у вас целые вечера! Даже некоторые видели, как он…
Лицо Ко́зель приняло холодное, гордое выражение оскорбленной женщины.
— Довольно! — сказала она. — Довольно! Все это правда, Лехерен действительно влюблен в меня, но я смеялась над этим и смеюсь. Он забавлял меня и только… Слушая его, я потешалась над ним… Не думаю, чтоб это была очень большая вина. Или ваше величество полагаете, что достаточно полюбить меня, чтобы быть любимым мною?.. Но, впрочем, все это вздор, а вот что ужасно, — продолжала она, заплакав. — Ужасно, что Фюрстенбергу довольно было бросить в меня одно злое слово, и оно уничтожило в вас всякое ко мне доверие!
Ко́зель упала на софу и закрыла глаза руками. Король был уже укрощен. Он стал перед ней на колени и начал целовать ее руки.
— Анна, прости меня! — воскликнул он. — Не был бы я ревнив, если бы не любил тебя! Знаю я этого Фюрстенберга! Это правда, что он ядовитейшая змея. Но прости же меня, прости!.. Я не хотел, чтобы даже подозрения касались моей Анны!
Но графиня все-таки не переставала плакать.
— Король, — говорила она, всхлипывая, — если ты будешь потворствовать клеветникам… и приближать их к трону, то помни, что они не кончат мною… Язык их не пощадит и твоей священной особы!
— Будь спокойна, будь спокойна! — отвечал король. — Я обещаю тебе, что с этих пор никто более не осмелится говорить мне о тебе.
Сцена эта кончилась нежностями и самыми торжественными уверениями в любви с обеих сторон.
Король вернулся в замок совершенно успокоенный, а наутро заметно отворачивался от Фюрстенберга и не обратился к нему ни с одним словом.
Таким образом, благодаря Заклику Ко́зель одержала эту победу.
Что же касается графа Лехерена, то ему Август через министра своего двора приказал немедленно оставить придворную службу и выехать из Дрездена.
Это распоряжение настолько ошеломило молодого графа, что он не знал, верить ему или нет. Комендант города приказал подтвердить Лехерену распоряжение министра двора, назначив двадцать четыре часа на сборы и выезд.
Встревоженный Лехерен, не зная ничего о том, что произошло, поспешил во дворец к графине Ко́зель. Заклик явился к Анне с докладом о графе. Ее это несколько смутило, и она, покраснев, отвечала Заклику:
— Передайте графу, что я не могу принимать тех, кому запрещено показываться королю. — И затем, понизив голос, добавила: — Скажите тоже, впрочем, что я сердечно сожалею о его отъезде и…
Она сняла с пальца перстень, который незадолго перед тем подарил ей король:
— Отдайте графу от меня этот перстень!
Заклик побледнел.
— Графиня! — осмелился он отозваться сдержанным голосом. — Соблаговолите простить меня!.. Но этот перстень от короля…
Ко́зель, не терпевшая никаких противоречий, повернулась к нему с гневным лицом и, топнув ногой, сказала:
— Без замечаний! Делайте, что вам приказано!
Заклик вышел, но тотчас за дверями остановился и что-то соображал… Незадолго перед этим при саксонском дворе гостил богатый чешский граф и подарил Заклику дорогой перстень. Этот подарок был как нельзя больше похож на тот перстень, который Заклик теперь нес от Ко́зель графу Лехерену. Особенное предчувствие, что из-за этого перстня может выйти история, подсказало Заклику мысль подменить перстень, отдать свой и сберечь подарок Ко́зель, на всякий случай, себе. Он так и сделал: свой перстень отдал Лехерену, а перстень Ко́зель спрятал у сердца.
***
После этого прошло четыре дня, и на пятый король вздумал посетить графиню: он вошел к Ко́зель в ее будуар, когда она одевалась, и, ревниво оглядев ее руки, сразу заметил, что на них не достает перстня, с которым Анна до сих пор обычно никогда не расставалась.
— Где мой перстень с изумрудом? — спросил запальчиво король.
Анна с большим присутствием духа, начала беспокойно искать кольцо в своем рабочем столике, на паркете и по всей комнате, но перстня, разумеется, не было. Между тем лицо короля все более и более покрывалось краской.
— Однако, что же это значит?
— Что такое?
— Куда мог деться этот изумруд?
Ко́зель пожала плечами и обратилась к служанке, но та отвечала, что она уже четыре дня не видит этого кольца на руке графини.
— Четыре дня!.. Как раз четыре!..
Август рассчитал, что это точно совпадало с отъездом графа Лехерена, а о том, что изгнанный красавец приходил прощаться с Ко́зель, Август, конечно, отлично знал.
— Гм!.. Да… так его уже четыре дня нет! Ну так и не ищите его более напрасно! — сказал насмешливо король. — Я, может быть, мог бы вам и сказать, где он, но… не нужно!
Ко́зель немного смешалась, король рассердился. Графиня готова была упасть в обморок, как вдруг кто-то постучался в двери, и прежде чем Анна обернулась, на пороге показался Заклик.
— Прошу милостиво простить мне, что я прихожу сюда! — начал он. — Но мне сказали, что ваше сиятельство изволите искать ваш перстень. Вот он! Час тому назад я нашел его возле вашего рабочего столика и ждал удобной минуты, чтобы подать вам.
— Подай! — воскликнул король и взял перстень.
Ко́зель даже не взглянула и не уронила ни одного слова, но когда Август передал ей перстень, она молча надела его на палец и, взглянув негодующим взглядом на короля, вышла в другую комнату.
Для успокоения Августа ничего другого не требовалось, теперь он готов был умолять графиню о прощении и, получив его не без некоторого труда, провел потом весь день безвыходно у своей возлюбленной.
Случай этот укрепил доверие Августа к Анне и усилил ее власть над ним. Враги должны были притихнуть.
После полуночи король прошел переходами в свой кабинет для совещания с ожидавшими его там министрами. Карл XII тяготил своим присутствием несчастных саксонцев и не скрывал своего неуважения к Августу. Молодой завоеватель, которому было тогда всего с небольшим двадцать лет, представлялся всем чем-то вроде Аттилы, святотатственно посягающего на просвещенную жизнь культурного края.
Между тем, чуть король удалился заниматься делами, сияющий на пальце у графини изумруд напомнил ей о Заклике.
Она позвонила и велела явившемуся на зов карлику тотчас же позвать к ней Заклика.
Раймонд явился; он знал, что дело не обойдется без бури, и не только был взволнован, но даже дрожал.
Графиня нетерпеливо ходила по комнате и при появлении Заклика нахмурила брови и грозно спросила:
— Кто вам позволил изменять мои приказания? Что это за дерзость?
Заклик едва смел поднять глаза и, стоя с опущенной головой, отвечал:
— Я виноват, графиня, но… я хотел сберечь вас…
— Я не нуждаюсь ни в чьей опеке!.. Я в своих слугах желаю видеть одно послушание и ничего более: их ума мне не надо… А их чувства, какие бы они ни были, я презираю.
Заклик стоял молча.
— Что же, — заговорил он после паузы, — вам, графиня, стоит сказать одно слово, и меня завтра же посадят в Кенигштейн или повесят на рынке. Но я сделал свое дело: я поступил, как мне велела моя к вам преданность, и буду рад умереть.
— Умереть! — повторила, немного смягчая свою суровость, графиня. — Что мне до этого? Но почему вы знаете, что вы мне оказали всем этим услугу? Может быть, вы, избавив меня от минутной неприятности, огорчили гораздо более тем, что не исполнили в точности моего приказания?
— Позвольте мне оправдаться…
— Чем вы можете оправдываться?
— Тот… кому вы изволили приказать отдать этот перстень…
— Ну!
— Он получил перстень!
— Что вы такое лепечете, я вас не понимаю.
— У меня был перстень, как две капли воды похожий на ваш… Мне дал его один магнат из Богемии, Штернберг.
— Ага, я догадываюсь! Вы отдали Лехерену перстень, который подарил вам Штернберг?
— Виноват, графиня, я это сделал.
Ко́зель посмотрела на него с изумлением и, совсем изменив тон, проговорила:
— Вы хороший человек, Раймонд, и заслужили награду!
— Я желаю получить только одно прощение, — возразил Заклик, — награды я никакой не приму, графиня.
И с этим он поспешно отступил.
Графиня молча подошла к своему верному слуге и молча подала ему перстень, предназначавшийся Лехерену, но Заклик, вздрогнув и упав на колени, воскликнул со слезами:
— Нет, воля ваша, графиня, не платите мне, не оскорбляйте меня, когда я так счастлив!
— Так счастлив, — прошептала графиня, и ее белая ручка тихо поднялась к губам стоявшего перед нею слуги.
Раймонд благоговейно поцеловал эту руку и, выйдя за двери, заплакал слезами, в которых были и радость, и горе, и счастье, и мука. Графиня осталась одна; ей вспомнился давний Лаубегаст и этот влюбленный в нее детина, она прищурила свои очаровательные глазки и, вздохнув, промолвила:
— Бедняки умеют любить! — И отправилась в свою опочивальню.
***
Карл XII не давал ничем уломать себя. К великолепному Августу он относился почти презрительно. Получая приглашения на королевские охоты, он посылал вместо себя кого-нибудь из придворных, а сам занимался военной муштрой новобранцев. Мир был заключен и подписан, и несчастный Паткуль был выдан, а Карл XII все еще сидел в Саксонии, и никто не мог сказать, когда он уйдет восвояси.
Такое унижение и тяжелое бремя не могли не пересилить всякое терпение, и это случилось. Смелость шведа, разъезжавшего по завоеванному краю в сопровождении каких-нибудь двадцати-тридцати всадников, породила довольно небезопасные для него замыслы.
Однажды утром во время приема министров королю доложили о старом графе Шуленбурге. Ветеран тотчас же был принят, и так как он просил аудиенции, то все другие удалились, а Шуленбург остался с королем с глазу на глаз.
— Что скажешь, генерал? — спросил Август. — Быть может, принес радостную весть, что шведы уходят?
Граф Шуленбург болезненно усмехнулся.
— Нет, государь, — отвечал он, — швед-то не уходит, а его надо выпроводить.
— Каким же способом?
— Способ бы нашелся.
— Я, признаюсь, его не вижу, разве Господь Бог ниспошлет под твою команду Свое войско с Михаилом Архангелом во главе.
— Чудеса в этом роде редки, государь, и ждать их напрасно! — отвечал Шуленбург. — А мне кажется, что при небольшой решимости мы могли бы, может быть, справиться со шведом и своими средствами, без архангелов.
— Я, право, не понимаю, на что ты намекаешь?..
— Намек мой прост и ясен, ваше величество: шведов, разбросанных по всей Саксонии, всего каких-нибудь двадцать тысяч. Это ничтожно, а сильным эту горсть делает только один смельчак. Если бы не было его, то все остальное ничего бы не стоило.
— Но ведь он есть!
— Да, в том-то и дело, что он есть, то есть до сих пор он есть, но его может не стать.
— Как же это сделать?
— Как, государь?.. Мало ли как это делают! Я полагаю, что если, например, его захватить, то ведь остальные нам не будут страшны.
— Конечно, они не будут страшны, но…
— Что такое, государь?
— Да ты подумай, что ты предлагаешь?
— Я еще ничего вам пока не предлагаю, а просто говорю…
— Что же ты говоришь «захватить»?..
— Да, именно, если его захватить, что тогда будет?
— Захватить? Во время мира! Захватить человека, нам верящего и не остерегающегося нас!
— Да, это только и делает возможным привести над ним в исполнение справедливую месть! — отвечал Шуленбург. — С офицерами нашей конницы, расположенной на границе Турингии, я произвел недавно рекогносцировку главной квартиры шведа: она укреплена совсем слабо. Ночью я могу напасть на нее, захватить короля и привезти его в Кенигштейн… Пускай меня потом там осаждают, я не сдамся! Голова их короля будет служить мне добрым обеспечением. И он, сидя у меня в гостях, подпишет такой трактат, какой мы захотим, а не какой ему угодно.
Август выслушал это с большим вниманием и не возражал, а напротив, только спросил:
— Ну, а если тебе эта попытка не удастся?
— Если она не удастся, так эта неудача припишется мне, а не вам, государь. Что делать, так или иначе, а край должен быть спасен!
— Господин генерал, — резко сказал король, — мне кажется, что вы бредите!
— Нет, я не брежу, государь!
— Ну, все равно! Во всяком случае, то, что вы предлагаете, невозможно!
— Право, не вижу, почему ваше величество считаете это невозможным? В моих глазах мой план и прост и верен.
— Да, он, может быть, и прост, и верен, но я слишком уважаю рыцарские правила и ни за что не позволю напасть на врага таким низким, коварным, изменническим образом! Нет, нет, генерал, я никогда этого не позволю! Я ненавижу Карла и охотно бы задушил его своими руками, но схватить его предательски, ночью, пользуясь его доверием ко мне… Нет, и тысячу раз нет! Никогда я этого не сделаю!.. Генерал, это недостойно Августа!
Шуленбург посмотрел на короля угрюмо и спросил:
— А он? Он, позвольте узнать, всегда ли обходился с вами по-рыцарски?
— Что мне за дело? Пусть такие грубые мужики, как этот молокосос, поступают, как хотят, а я буду поступать, как мне угодно!.. Карл непросвещенный варвар, а я, Август, монарх, которого народ зовет Сильным, а монархи, соседи мои, именуют Великодушным. Я не позволю себе такого коварного поступка!
Генерал встал и, покручивая свои усы, начал откланиваться, но тут ему пришел в голову еще один вопрос.
— А что, если бы это позволил себе непослушный солдат? — спросил он.
— Тогда я сам был бы обязан защитить своего врага и освободить его! — отвечал Август. — В этом для меня нет и не может быть никакого сомнения!
— Не смею спорить, сомнения нет, это… чрезвычайно благородно! — проговорил Шуленбург с едва заметной, легкой иронией в голосе.
Король услышал эту ноту и взял его за руку.
— Любезный генерал, — сказал он, — прошу тебя, оставь эту мысль и никому не говори о ней! Я не хочу таких побед!
Шуленбург молча поднял пристальный взгляд на короля и как бы спрашивал его:
— А выдача Паткуля или заточение Имгофа и Пфлугена разве дела менее гнусные и бесчестные?
Король понял этот немой упрек, и лицо его покрылось густой краской.
Шуленбург, конечно, это заметил и, не уходя, проговорил:
— Ваше величество, но что нам делать? Нам нельзя не доходить до отчаяния. Что же будет далее?
Август схватился за это слово и, пройдясь с усмешкой на губах по кабинету, молвил:
— Вот в том-то и дело, что что-то «будет далее»? Смотри, пожалуйста, вперед или, как ты говоришь «далее». А далее вот что виднеется: отуманенный удачами, самонадеянный молокосос непременно все будет забираться «далее», и там его конец и погибель. Я замечаю, что он и теперь уже рассчитывает плохо и начинает действовать опрометчиво. Поверь, он на этом не остановится и подрываться под него предательством и изменой значит только упреждать события, неизбежные и без всякой с нашей стороны низости. Терпение, господа, прошу вас о терпении! Карлу кланяется вся Европа, поклонение приличествует Богу, но человеку оно вредит; оно его туманит и рождает в нем пустую спесь. Не мешайте же ей раздуться, и, поверьте, она одолеет Карла лучше всех его врагов и завистников.
— Но пока это случится, государь, что станет с бедной Саксонией?
— Э, полноте, пожалуйста, ничего с ней особенно худого не станет. Народ все вытерпит, народ, что трава, где ее скот плотнее вытопчет, там она на другое лето сильнее растет.
— Да, но ведь они люди, государь, ведь их жаль! — сказал Шуленбург.
— Не «люди», а народ! — поправил его король и, оглянув старика выразительным взглядом, добавил: — Я решительно не понимаю, что за фантазия приписывать черни то, что ей ни в каком случае принадлежать не может.
После этого генерал умолк и откланялся, но когда он был уже за дверями, король остановил его и воротил к себе снова:
— Говорил ты об этом с кем-нибудь? — спросил его Август.
— Я не говорил, но самую эту мысль мне подали офицеры, и потому я не могу считать это единственной моей тайной, — отвечал Шуленбург.
— Это значит, что почти все уже знают?
— От меня никто! — с достоинством отвечал генерал. — Но от других, я не ручаюсь, очень может быть, что и знают.
— В таком случае прикажи всем молчать!.. Ради Бога молчите, и пускай мне об этом никто и не говорит!
С этим они расстались. Шуленбург вышел, а Август остался со своим «рыцарским» чувством, которое не ладило с ним после выдачи Паткуля.