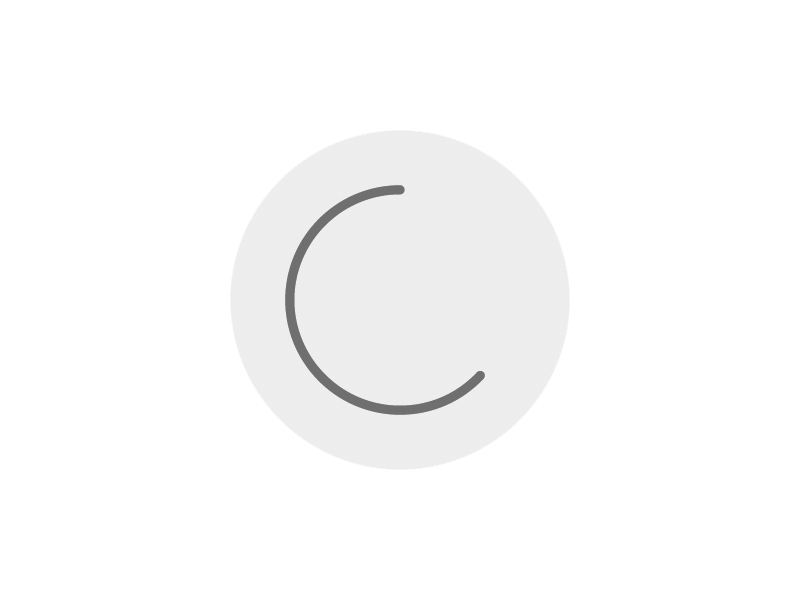Ars poetica
1. В «Великой красоте» Соррентино в сцене, происходящей в ресторане, есть диалог:
— А к чему мне тогда серьезно относиться, если не к Прусту?
— Ни к чему, кроме меню, конечно.
2. Письмо рождается из чтения. Банальность. Но именно она, эта банальность, важна для меня, потому что я чаще думаю о себе как о читателе, чем как о человеке, который пишет; возможно, потому что я гораздо чаще читатель, нежели пишущий. Читатель я прежде всего. И я люблю банальности, у меня есть слабость к китчу, безвкусице, тавтологии и так далее. Как читатель я также испытываю неодолимое и постыдное влечение к авторитетам, поэтому читаю в основном классику; возможно, из любопытства, что именно выносит на поверхность и канонизирует причудливое силовое поле, сгенерированное автором. Я могу одновременно и восхищаться некоторыми писателями, и испытывать к ним раздражение, как, например, к Томасу Манну (этому вице-Достоевскому для образованных мещан), но, даже если точка зрения этого писателя не становится частью моего личного опыта и фильтром, через который я буду пропускать собственную жизнь, я по крайней мере узнаю кое-что о человечестве: главным образом то, что человечество — это те, кто признал Томаса Манна величайшим святым от литературы. У каждого читателя есть своя собственная, пусть даже неосознаваемая теория литературы, и она для него является базовой. Впрочем, хватит теоретизировать: не буду утомлять вас историей моего читательского опыта.
3. И историей моего писательства тоже. [100% Адам Лешкевич (читает) — отрывок 2.] Начну сразу с того момента, когда несколько лет назад в одну ночь я понял, как надо писать стихи, и решил, что, если и эта очередная из бесчисленных тропинок и попыток, предпринимаемых с детства, обернется неудачей, я буду должен признать, что действительно не в состоянии написать ничего имеющего художественную ценность. Не имея возможности полностью освободиться от внутренней потребности в рифме и ритме — обычно, когда я писал по-другому, мне казалось, что я всех обманываю, — я решил ломать и рифму, и ритм, калечить их и одновременно делать смешными, намеренно гротескными, болезненными, игровыми. Возможно, в этом есть что-то от средневековой поэзии (недооцененной, несформировавшейся, незрелой, но временами могущественной и производящей сильное впечатление, если не смотреть на нее сквозь призму того, что пришло позже, — сквозь призму Кохановского, который систематизировал, отшлифовал и классифицировал то, что имело потенциал пойти в совершенно ином направлении) — но также и от поэзии хип-хопа: необработанность, шероховатость, неуклюжесть и в то же время — почему бы и нет — эффектность, легкость, игра. Это открытие, открытие собственной формулы, дало мне две вещи: во-первых, легализовало потребность в рифме, одновременно освободив меня от писания эпигонских стихов в стиле, скажем, Станислава Баранчака; во-вторых, создало дистанцию по отношению к самому себе: обнаруженный способ почти не позволял писать провальные эмо-стишки, которыми я заполнял файлы на компьютере, — он позволил отделиться от самого себя и таким образом получить ощущение, что я действительно нашел что-то свое, нашел себя, на другом уровне. Понял я и то, что в принципе не могу писать стихи «на заданную тему». Стихотворение обычно рождается у меня как минимум из двух разных идей, из двух или больше зародышей, фраз, образов, которые становятся стихотворением только тогда, когда сталкиваются, переплетаются и развиваются вместе. Благодаря этому у меня появилась уверенность, что я свободно могу использовать даже банальную фразу с глагольной рифмой — поскольку через мгновение столкну ее с чем-то, что ее перевернет, придаст ей другой смысл или, наоборот, усилит имеющийся с неожиданной стороны. Иными словами, я почувствовал, что могу делать все что угодно. Так появились стихи, вошедшие в сборник «Фантомная голова» и последовавшие за ними. Когда несколько знакомых увидели первые варианты текстов, которые позже были включены в книгу, они написали мне: «Что это такое? Так не пишут. Так нельзя», — и я понял, что, пусть даже на мгновение, я нашел то, что искал, или, по крайней мере, пошел по правильному пути. Когда я говорю «по правильному пути», я имею в виду только то, что у меня появилось ощущение, что я нашел путь решения своих проблем с написанием стихов — а это было частью всех моих проблем как таковых; понятия не имею о «художественной ценности» того, что я пишу, — у меня есть чувство, что я решил вопрос с самим собой и с миром. Во всяком случае, когда и насколько мои личные открытия перестанут для меня работать и что я буду искать дальше, неизвестно.
4. С одной стороны, чтение и письмо — здесь я специально не буду разделять эти действия — это опыт новизны, избыточности, подобный открытию нового вида животных или встрече с чем-то доселе не существовавшим, а теперь появившимся. Читателю должно быть знакомо чувство, когда он прочитал что-то, что дало ему еще одну точку зрения на мир или дополнительный фильтр, через который он познает самого себя, — чувство расширения собственных границ. В свою очередь, пишущему знакомо чувство, будто из-под его пера вышло что-то, его превосходящее, то, что позволило ему, повторяя ту же самую формулировку, расширить свои границы, — при этом, выходя, это что-то обретает самостоятельное существование, становится отдельным объектом, как застывает в камне лава, отделившаяся от потока. Об этом мы обычно говорим, когда произносим слово «творчество». С другой стороны, литература — это всего лишь протез. Попытка свести отрицательный баланс к нулю, не более того. Протез, затыкание брешей, самолечение, поиски потерянного рая: попытка восполнить недостающее. Протез не требуется тем, кто здоров, не чувствует нехватки, живет полноценной жизнью и без него. С этим связана еще одна вещь, позволяющая посмотреть на ситуацию под другим углом: литература реактивна, это протез не только в личном, но и в далеко надличностном измерении. Кто-то мог бы, к примеру, сказать, что «Котлован» Платонова — величайший роман, написанный в ХХ веке, и в силу этого он как таковой, как произведение искусства, как бы прилагается к миру; но он не был бы создан, если бы не преступления сталинизма. Темный фон присутствует всегда, это, собственно, и есть условие литературы: я не знаю, была ли бы в мире, который не был бы падшим, в мире — выражаясь языком богословия — до первородного греха возможна литература; но даже если и была бы, представить ее невозможно. Что ж, те, кто не читает и не пишет, возможно, не чувствуют никакой нехватки просто потому, что у них действительно ни в чем ее нет, а племя читающих и пишущих — это практически племя засыпателей котлованов. Людям, которым достаточно «просто жизни», литература не нужна, им не нужно серьезно относиться к Прусту, серьезно они относятся к меню. Может, им стоило бы просто позавидовать, а не заниматься пропагандой чтения.
5. Итак: письмо как приравнивание к нулю, героическое решение собственных проблем, проблем, без которых вполне можно обойтись; если угодно, письмо как борьба с последствиями первородного греха. Но также и как благодать, творение (почти) ex nihilo, отражение от нуля ввысь, в плюс бесконечность. Кто-то написал о моих стихах, что они циничные и нигилистические; а мне иногда кажется, что их главная тема — это благодарность и благодать. Дело вкуса? О взаимоотношениях литературы и живописи, литературы и музыки пишут уже давно и немало. С другой стороны, существует очевидная, хотя, кажется, и редко встречающаяся идея сродства литературы и кулинарного искусства. Живопись или музыка появляются практически из ничего, они не являются обязательными и пользуются средствами, изобретенными исключительно для собственных нужд, — в отличие от слов или пищи, являющихся непременными условиями человеческой жизни: все едят и все разговаривают, и все ели бы и разговаривали даже в том случае, если бы не существовало понятия «литература»; и никому не пришло бы в голову ждать от кухни чего-то большего, чем поддержание жизни. Кухня и литература состоят из того, что является обыденным, повседневным и используется всеми, и разве что трансформируются в новое качество, когда мы согласны признать их особый, творческий ранг. Чем больше я над этим размышляю, тем более очевидным кажется этот подход и тем страннее тот факт, что именно благодаря такой точке зрения наша культура приучила нас думать. В конце концов, если наши идеи можно сформулировать таким образом, чтобы они отталкивались от богословия, даже если они отделились от него и секуляризовались, мы и здесь увидим доказательство того, что должны признать наличие общего знаменателя в литературе и кухне. Ведь Христос как воплощенный Логос не использовал ни музыку, ни изображения — он использовал слова и с их помощью явил таинство своего присутствия в еде. Слова и еда. Комплект. — А к чему мне тогда серьезно относиться, если не к Прусту? — Ни к чему, кроме меню, конечно.