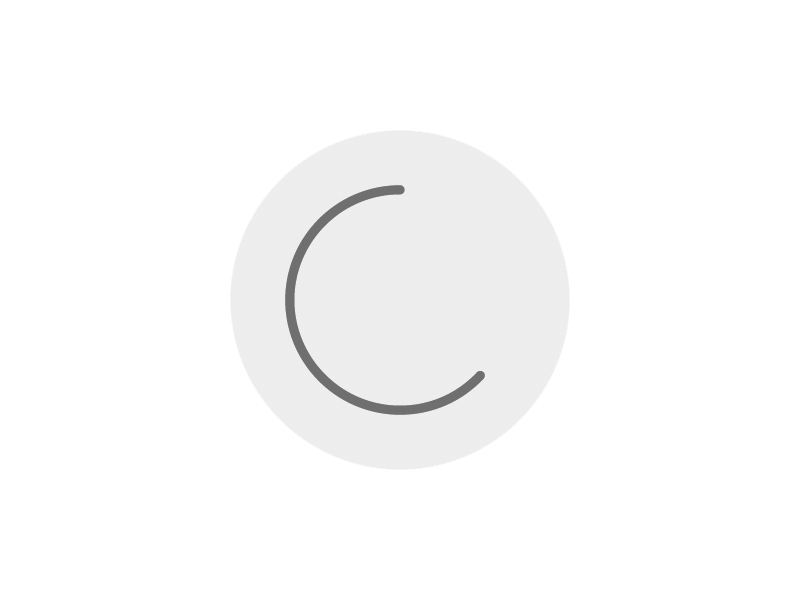Тадеуш Мицинский
Сын лодзинского промышленника, Тадеуш Мицинский родился в Лодзи в 1873 году. Его «учебные годы» (если придавать этим словам тот широкий смысл, который придал им Гете) тянулись довольно долго. Примкнув в Кракове к группе «Молодая Польша», он самостоятельно, отдельной книгой выступил в литературе только в 1902 году. Это был сборник стихов «В сумраке звезд».
Русский читатель может вспомнить о «Звездных песнях» Н. Морозова. Но ничего общего с «астрономическими реляциями» стихи Мицинского не имеют. Как и рассеянные впоследствии по журналам стихотворения (в частности, в журнале «Жизнь», органе «Молодой Польши»), «В сумраке звезд» — это «исповедание веры» европейского буддиста. Путь, пройденный Мицинским в поисках нового миросозерцания, очень сложен. Эта сложность становится еще менее доступной, если одновременно со стихами прочесть сборник его новелл «Чернолесские дубы», написанных в манере, близкой реализму К. Тетмайера; в новеллах этих все просто, ясно, но, по-видимому, реализм был совершенно чужд Мицинскому, который, заставляя себя мыслить так, как все люди, становится беспомощным и бесцветным. Подлинный Мицинский — вдохновенный свыше пророк, точно сошедший с иллюстрации Врубеля к стихотворению Пушкина. Да и весь облик Мицинского-поэта совершенно врубелевский. Быть может, обоим были доступны те же видения; только одному — в линиях и красках, другому — в ритмической речи.
Проникновенность и прозорливость поражают в Мицинском прежде всего. Речь его производит впечатление странной бессвязности (порою — беспомощности). Происходит это, несомненно, оттого, что материализация в слове музыкальных образов, открывающихся ему, мучительно трудна. Для лирики Мицинского нет слов, это скорее иллюстрация к никогда не написанным музыкальным симфониям. Точно такое же впечатление, как «В сумраке звезд», производит поэма А. Скрябина (напечатанная десять лет назад), если читать ее, забывая о его музыке. Кстати, и Мицинский, и Скрябин — необуддисты и теософы — по своему миросозерцанию близки друг другу. Самые отделы сборника уже говорят за себя: «Низвергнутые с небес», «Полярные ночи», «Уже paссвет», «In loco tormentorum», «Среди рая», «Залив радуг», «Белые розы крови»... Не строение стиха, его мелодика, рифмы интересуют поэта: все его стремление направлено к тому, чтобы найти словесные образы для символов. Мистические пути Будды и Христа, Мицкевича и Словацкого, испанских и средневековых латинских поэтов играют для Мицинского роль «упражнения» (греческого «аскесиса») в достижении самопознания души. В нем (и — значит — в его поэзии) борются Будда и Ваал, Сфинкс и Христос. И этой борьбой насыщено все его творчество. Он становится рабом своих видений, как шаман — заклинаний.
Теоретические статьи Мицинского («К истокам польской души» 1906 г., «В сумраках золотого дворца» 1907 г., «Новая жизнь» 1907 г., «Борьба за Христа» 1911 г.) тоже ничего не объяснят нам, так как тут он намечает пути совершенствования души. «Забыли, — говорит поэт, — что в Душе заключена возможность создания своего Огня и своего Моря». В этом утверждении заключена тайна ирреализма Мицинского: душа человека строит свой надзвездный мир.
Но поэт коварен, он отравлен мыслью, «своим темным ядом». Так в его душе Сфинкс борется с Христом.
Пониманию творчества Мицинского препятствует еще и то, что многие его рукописи не опубликованы. Он вообще долго не издавал написанное, точно оберегая ревниво от непонятливых читателей. И был прав: из писателей «Молодой Польши» он менее всего известен. До сих пор известны три его больших поэмы в прозе: «Нетота» (1904 г., изд. в 1910 г.), «Ксендз Фауст» (1909 г., изд. в 1913 г.) и «Вита» (изд. посм. в 1926 г.). Названы эти книги «повестями», но повествовательного в них решительно ничего нет. Прежде всего, для Мицинского не существует времени и пространства; в своих видениях он уходит так далеко от земных понятий, что душа его проносится чрез звездные пространства в биллионах лет, говорит на звездном языке. Поэтому неудивительно, что для него у подножия Татр плещется море («Нетота»), что Екатерина II оказывается у него современницей Стеньки Разина («Вита»), что священник и мудрец, искатель истины Ксендз Фауст живет вне земных пределов, вне земного быта, переживая смерть и просветление («Ксендз Фауст»). Земные понятия — дело второстепенное для поэта. И не все ли равно, как живут люди, когда главное — чем они живут? И вот, в самом замечательном своем произведении «Вита» поэт совершенно не заботится о том, чтобы верно следовать описанию исторического события — съезда в Каневе ХVIII века. Событие это — лишь предлог, толчок извне. Место действия — Украина — ничего общего с подлинной Украиной не имеет, как Иерусалим в поэме Торквато Тассо — с подлинным («Освобожденный Иерусалим»). Вита — польская Жанна д’Арк, князь Юзеф Понятовский — Дюнуа. Вспоминается рядом с Тассо — Шиллер, тем более, что идея свободы, освобождения — одна и та же. Но все несообразности отпадают, если забыть о содержании, о развитии сюжета, так как в поэмах Мицинского самое убедительное — образность. Многие эпизоды из «Виты», например, выигрывают в ценности, будучи оторваны от целого; так, скажем, очаровательно истолкование импрессионистического значения напитков в связи с чтением книг. Обстановочность и драматизация характерны для Мицинского. В этом направлении фантазия поэта развернулась во всю ширину в драме «Базилисса Теофану» (1909 г.), где арабская и византийская культуры дали возможность воспроизведения фантастических событий со всей восточной декоративностью, в то время как драма построена на характерной для Мицинского теме: женщина гениальной души стремится к незримому земными очами солнцу.
При этом надо оговориться: обстановочность, пышность образов никогда не приводит Мицинского к эстетизму. Он, с детства прислушивавшийся к могучему ходу машин, воспевал современную индустриализацию жизни, понял красоту вращающегося вала и гудящего нетерпеливо мотора.
Современное странным образом уживалось в нем с ирреализмом. Эти черты творчества поэта ярче всего преломились в трагедии «Князь Потемкин» (1906 г.). Напрасно искать здесь черт символизма Андреева, Метерлинка, Пшибышевского. Пожалуй, есть отдаленное сродство с драмами С. Выспянского, но всё тут неотъемлемо-свое. «Потемкину» в искусстве и литературе за последние годы, вообще говоря, повезло: в кино сняли замечательную картину на эту тему. Б. Пастернак издал прекрасную поэму «Лейтенант Шмидт». Несуществующий, увы, более варшавский театр имени Богуславского, самый передовой театр Польши, поставил несколько лет назад под режиссурой Леона Шиллера и при участии литератора Виляма Гожицы «Потемкина» Мицинского. Гожица написал впоследствии блестящую статью об этой постановке, выясняя потаенный мистический смысл драмы. Замысел грандиозен. «Потемкин» становится кораблем-символом. Основываясь на описании событий, Мицинский создает коллективную трагедию; коллектив этот — не только весь экипаж корабля, он — человечество в целом. Действие развивается в машинном отделении, где бьется сердце корабля, и восходит все выше, заканчиваясь на верхушке мачты, с которой бросается мистик-матрос Митиенко; затем действие переходит в мистическое пространство и заканчивается на символической скале.
Из стихийного матросского движения Мицинский выделяет двух лейтенантов, друзей Тона и Шмидта, «лед» и «пламень». Первый — индивидуалист, отмежевывающийся от толпы, за что и гибнет (от руки матроса Митиенко). Второй — пламенный вождь, бросающийся впереди стихии и гибнущий от Зла, которое захватывает его. Все рушится кругом, и Неизвестный становится у руля этого грандиозного Пьяного Корабля, который находится во власти необузданной стихии и идет на гибель — ко дну. А Шмидт вне времени и пространства, один на скале (не реминисценция ли это образа Наполеона на Св. Елене?) ведет беседу с духом Тона, который после крушения надежд на свободу указывает на единственный путь освобождения: только когда бог-младенец (новый царевич Сиддарта-Будда?) откроется в истине для каждого человека, все человечество, заблудившийся во мраке Черного Моря Корабль, вернется в гавань. «Потемкин» не нашел пути в страну свободы.
Ни в одном другом произведении система миросозерцания Мицинского не была выражена так стройно и ясно.
Искатель истины, поэт-пророк, он сознательно совершил «исход к востоку», в стихийности и грозе провидел откровение. Но эта гроза сожгла его самого: в 1918 году, перед возвращением в Польшу он погиб в западной России, погиб бессмысленно в одной из стихийных вспышек крестьянского движения.