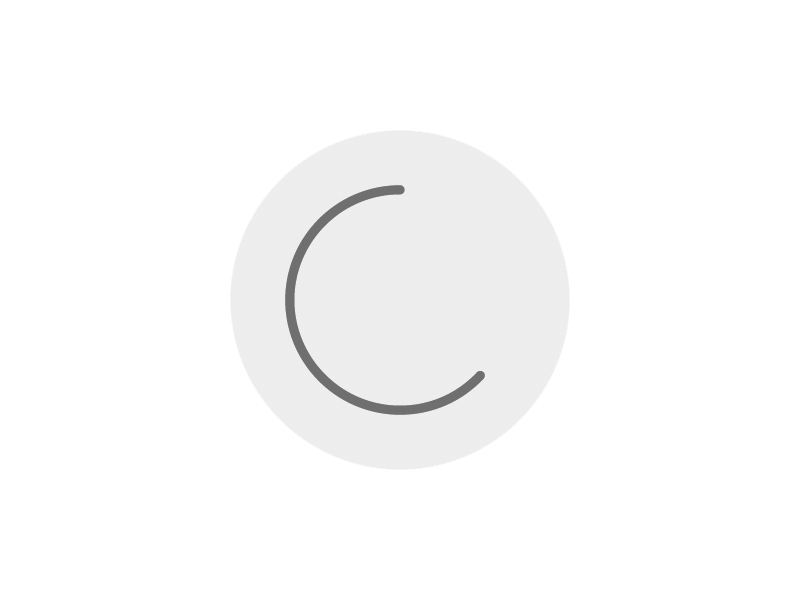Солдатик. Памяти Густава Герлинга-Грудзинского
После вести о кончине пытаешься привести мысли в порядок, выстроить какую-то иерархию: кем, прежде всего, был для тебя ушедший? Писателем, другом, бывшим зэком (зэковское братство — вещь непреходящая)? Однако иерархия не выходит, никаких «прежде всего» не получается. Писатель, друг, зэк — все это был один человек, а не несколько функций, «ролей» в одном. Человек, голос которого я и сейчас как будто слышу, мимику которого я и сейчас вижу.
Даже если попытаться написать «по порядку», все соединится в одно. Потому что писатель Герлинг-Грудзинский — это все-таки в первую очередь для меня, читателя и переводчика (даже отодвигая на второй план столь любимый мною «Ночной дневник»), для нас, русских, автор «Иного мира». В этой книге — мир «Мертвого дома» тоталитарного XX века, мир, увиденный глазами зэка, мир лагерей на несчастной русской земле, лагерных бараков на оскверненном русском Севере, мир лагерных людей — от последнего доходяги до первого по жестокости начальника. Увиденный глазами зэка — и писателя. Более того, может быть (а я так прямо уверена в этом), мир, сотворивший писателя. Герлинг-Грудзинский — это не Достоевский, успевший стать знаменитым писателем, познавший до каторги и сладость славы, и горечь безжалостной критики. Густава Герлинга-Грудзинского, почти еще мальчишку, сделал писателем лагерный опыт, который, как мне кажется, никогда не покидал его, отзвук которого, если прислушаться, можно обнаружить даже в самых отдаленных от ГУЛАГа произведениях, даже в рассказах об итальянском Средневековье. Не говоря уж о «Дневнике», в котором без лагерного опыта русская и советская тема вряд ли заняла бы такое огромное место.
Другом русских Густава Герлинга-Грудзинского тоже сделали лагеря. Поляков, не имевших подобного опыта, обычно характеризовала либо вполне антирусская настроенность, при которой Россия и Советский Союз были одним и тем же чудовищем, либо равнодушие, пренебрежение, отсутствие всякого интереса к этой стране, как бы она ни называлась, — этот последний подход широко распространился в последние годы, после крушения советской империи и всплытия Российской Федерации как самого крупного ее обломка. Поляки, побывавшие в лагерях, на спецпоселении или даже просто в глубине тогдашнего Советского Союза и повидавшие жизнь народную под властью коммунистов, всегда были теми, с кем мне было говорить легко и просто: они всё понимали, а об этих, самых тяжких годах своей жизни говорили даже с долей ностальгии — о неведомых им ранее бескрайних просторах, заполярных пейзажах, а главное, о людях, русских и нерусских, встретившихся им на пути, нередко их спасавших, помогавших выжить.
Густав Герлинг-Грудзинский и был одним из тех, кого вслед за Мицкевичем, обращавшимся к «друзьям-москалям», мы могли бы назвать «друзьями-ляхами». Итак, зэк, писатель, друг. Но писатель — не просто «один из»: уникальный писательский дар дал и уникальное, не в одних разговорах и даже не в простых мемуарах явленное свидетельство, пронзительное до боли, до злости, почти до отчаяния. Пронзают не одни факты — пронзает повествование о них.
Тема России и сопутствующая ей тема коммунизма, а в последние годы жизни — того, что произошло после краха коммунизма, не оставляла его. Тема отпущения грехов — без покаяния — тем, кто так или иначе если не созидал, то хотя бы подпирал эту систему, стала у него одной из ведущих. Он не видел, как можно дать такое отпущение, и был, конечно, прав, несмотря на бурную полемику с ним в польской печати.
Три года назад в Люблине, куда пан Густав пригласил меня на присуждение ему почетной степени доктора университета им. Марии Кюри-Склодовской, на посвященном ему вечере я заключила свою речь примерно следующим. Глядя на римскую фотографию молодого Герлинга, солдата 2-го корпуса, я вдруг «узнала» его. Есть у меня старые, 62-го года, стихи, начинающиеся словами: «Как андерсовской армии солдат, / как андерсеновский солдатик…» И я увидела, что это он и есть — юный солдат андерсовской армии, стойкий оловянный солдатик из сказки Андерсена, верный долгу, друзьям, избранному им делу жизни.
«Упокой, Господи, душу раба Твоего», — поется в русской панихиде. Воистину — упокой, ибо при жизни покой этой душе не был свойственен. Наверное, об утрате этого беспощадного полемиста будут горевать многие его оппоненты. Но насколько же больше — друзья, к которым я и сегодня продолжаю себя причислять.
«Новая Польша», № 7—8, 2001