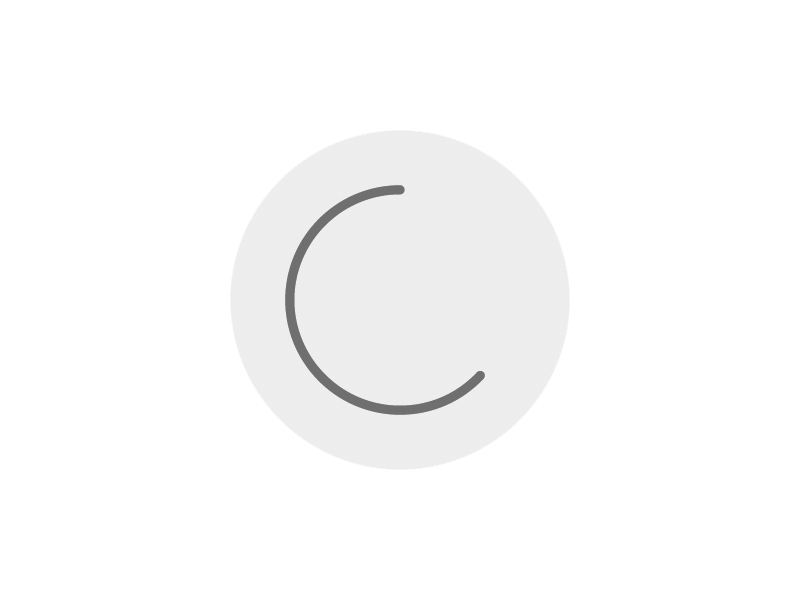«Пороховой магазин революции»: «Исторические песни» Юлиана Урсина Немцевича
Польский общественный деятель, историк, оратор, репортер, либреттист, драматург и поэт Юлиан Урсин Немцевич (1758—1841)
Популярность в Польше «Исторических песен», первое издание которых состоялось в 1816 году, была поистине огромна. Станислав Монюшко, слышавший их в детстве от своей матери, позже назовет цикл Немцевича своей «первой школой постижения музыки» [Prosnak, 1968, s. 20]. В монографиях о композиторе можно найти такие определения Песен как «польское евангелие, рифмованный учебник истории Польши, по которому в то время обучалось молодое поколение» [Рудзинский, 1969, с. 23].
«Человек-Польша», «Нестор польской литературы» — таковы эпитеты, закрепившиеся за именем Немцевича. Вот как в 1829 году рекомендовал Юлиана Урсина Адам Мицкевич в письме к русскому поэту Василию Андреевичу Жуковскому
К моменту написания сборника «Исторических песен» (1812 год) Немцевич прожил более половины своей насыщенной событиями жизни. Получив блестящее образование в Варшавском Кадетском корпусе
Политическая карьера и литературное творчество Немцевича тесным образом переплетались с самого начала его жизни. Эта связь станет определяющей в оценке фигуры Юлиана Урсина как современниками, так и потомками. В лекции о славянских литературах, посвященной Немцевичу, Мицкевич скажет следующее: «Немцевич никогда не выступал как поэт-виртуоз
Участие в восстании Тадеуша Костюшко 1794 года становится первым знаменательным событием в политической судьбе Немцевича. В этот период из-под пера Немцевича выходят прокламации, дневные приказы и военные бюллетени. Без участия Юлиана не создается ни один документ штаба повстанцев, ни одно воззвание к народу.
В финальном сражении восстания под деревней Мацейовице (недалеко от Варшавы) Немцевич был ранен в правую руку. Позже в своих воспоминаниях поэт очень эмоционально напишет об этом: «Я припоминаю, что боль не была первым ощущением, которое я испытал в этот миг; напротив, гордость, что я тоже пролил свою кровь за отечество, охватила меня. Однако романтическая радость патриотизма, льстившая моему самолюбию, вскоре рассеялась при виде общего смятения нашей армии» [Записки Немцевича, 1895, с. 91].
После подавления восстания Костюшко и его верный адъютант Немцевич почти два года находились в Санкт-Петербурге в плену. Поводом к их освобождению стала смерть Екатерины II, после которой «Павел I, немедленно по вступлении своем на престол, возвратил свободу Костюшко и Немцевичу, и дал им средства через Швецию и Англию перебраться в Америку» [Записки Немцевича, 1895, с. 89-90]. (Позже, по настоянию Немцевича, Костюшко вернет деньги, полученные от царя в Петербурге) [Ковенько, Павлючук и Байковска, 2007, с. 13].
Пребывание Немцевича в Америке значительно расширило и без того ранее большой круг знакомств. Это были американские генералы, финансисты, писатели и политики, среди которых — Джорж Вашингтон
В 1800 году Немцевич женился на вдове генерала Сусанне Каролине Ливингстон-Кин и поселился в небольшом доме городка Элизабеттаун. Однако оседлая жизнь в чужой стране продлилась недолго, так как политические события в Европе стали толчком к отъезду Немцевича из Америки. Провозглашение Наполеоном в 1807 году
Варшавского давали польскому патриоту надежду на возвращение независимости Польши. Немцевич активно включается в политическую и общественную жизнь новоиспеченного государства, занимая посты секретаря Сената, председателя Правительственной Дирекции театров, члена Директорского корпуса, инспектора школ.
В 1808 году Варшавское Общество друзей науки (Towarzystwo Przyjaciół Nauk), членом которого Немцевич был с 1802 года
Титульный лист первого издания «Исторических песен», украшенный изображением герба династии Ягеллонов, выглядит следующим образом:
Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami przez Jul. Urs. Niemcewicza, S. S. Członka T. K. W. P. N., Akad. Wileń., To. Nauk w Krakowie, Tow. Filoz. w Filadelfii i Tow. Woysk. w West Point w Ameryce. — Wyciśnięto w Warszawie: w drukarni No 646 przy Nowolipiu, 1816.
На титульном листе издания, хранящегося в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга
На авантитуле редкого первого издания Исторических песен карандашом написано «Пороховой магазин революции» и ниже чернилами приписано следующее:
Слова «Пороховой магазин Революции» написаны собственною рукою Господина Наместника в Царстве Польском, Генерал-Фельдмаршала Князя Варшавского, Графа Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского. Его Светлость, рассмотрев выписанныя из «Śpiewy historyczne», «Исторические Песни» Немцевича, предосудительныя места, вдруг изобразил означенными тремя словами и цель этой книги, и действие оной над читателями — Поляками. Это было в Варшаве в октябре 1832 года. О сем свидетельствует очевидец Действительный Статский Советник Александр Красовский. 19 мая 1836 года
Как известно, роль Паскевича в подавлении Польского восстания 1830–1831 гг. была решающей. [11].
Цикл состоит из 33 поэтических произведений, каждое из которых сопровождают прозаические исторические комментарии, названные Немцевичем «Przydatki» (дословно — «полезные знания»). После прозаического текста следуют миниатюрные гравюры, отражающие сюжет повествования
«Песни» выстроены в хронологической последовательности и, полностью посвященные одному персонажу или событию, реконструируют историю Польши, начиная с легендарного основателя первой польской княжеской и королевской династии Пяста жившего по преданиям в конце X века. Завершением исторической панорамы становится повествование о погребении польского князя, племянника короля Речи Посполитой Юзефа Понятовского 1813 году.
Началу «Исторических песен» предпослан гимн «Богуродзица» («Bogurodzica»), который до сих пор считается самым древним сохранившимся памятником польского языка. Время возникновения этой религиозной песни является предметом споров: одни относят ее к XIII—XIV, другие — к XI—XII векам [История, с. 14]. По свидетельству летописца Яна Длугоша (1415—1480) «Богородица» была «отечественной песнью» польских воинов, певших ее во время Грюнвальдской битвы 1410 года [Бэлза, 1991, с. 90]. Некоторые источники приписывают авторство гимна епископу и латинскому миссионеру в Чехии и Польше святому Войцеху (или Войтеху). Именно поэтому в цикле Немцевича нотный текст «Богуродзицы» имеет название «Śpiew Ś-go Woyciecha».
Музыкальный текст «Песни святого Войцеха» очень интересен: в параллельном изложении следуют варианты мензуральной и современной нотации гимна. Так как существовали различные варианты «Богуродзицы»
Изданию «Исторических песен» предшествовало написание Немцевичем отдельных поэтических текстов, которые в дальнейшем были включены в цикл. Однако жанровое определение их изменилось — если в молодости поэт обозначал эти тексты как думы («Дума о Станиславе Жулковском», «Дума о Стефане Потоцком»), то в сборник они войдут с названием песни. Замену впоследствии одобрил Адам Мицкевич, который «указал на песенную природу этого лирико-эпического жанра, отметив, что он требует «стиха», предназначенного для пения» [Бэлза, 1988, с. 61].
Жанровое определение дума сохранилось в цикле только у песни «Дума о Михаиле Глинском» («Duma o Michale Glińskim») Марии Шимановской. Тот факт, что исторический персонаж князя Глинского равно принадлежит истории польского и российского государств, привлек внимание будущего декабриста поэта Кондратия Федоровича Рылеева, который пишет перевод думы Немцевича и публикует его в журнале «Соревнователь» в 1822 году. В этом же году Рылеев посылает свой перевод Немцевичу вместе с письмом, в котором говорилось: «Любовь к правде и ко всему родному вдохновила меня представить вниманию моих соотечественников великие деяния русских героев и друзей всего человечества, и ваши «Исторические песни» были для меня отличным образцом» [Рылеев, 1971, с. 426-427]. Ответ Немцевича отмечен не только благодарностью русскому патриоту, но и мудрым отношением к национальному вопросу: «Я имел честь получить письмо ваше с приложенным отличным переводом думы Глинского. Честь, оказанная моим слабым рифмам переводом оных, и похвальные выражения ваши возбуждают во мне наиживейшую благопризнательность. Лестно для меня находить в единоплеменном народе сердца и намерения, которые побеждают все предубеждения и предрассудки, посвящаясь наукам и славе отечества» [Рылеев, 1971, с. 427].
Публикуя в дальнейшем сборник собственных дум, (куда включен и «Глинский»), в предисловии к изданию Рылеев отмечал, что «Дума — старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих...» [Пигарев, 1947, с. 59]. Издание «Дум» Рылеева пробуждает бурные дискуссии в русской критической прессе, где обсуждается как национальная принадлежность жанра, так и уточняется его определение. Так писатель Александр Александрович Бестужев
Жанровые споры вокруг «Исторических песен» Немцевича также подвергают сомнениям как необходимость, так и возможность их переложения на музыку. Так в 1823 году Адам Мицкевич пишет в письме к Яну Чечоту: «Исторические повествования столь же мало пригодны для музыки, как и назидательные пьесы. Музыка есть лишь голос чувства. То, что не проникнуто страстью, не пригодно для пения. "Исторические песни" Немцевича подходят больше для чтения, нежели для игры и пения» [Мицкевич, 1954б, с. 347]. В упомянутой выше рецензии Булгарина на издание «Дум» Рылеева критик высказывает резкое мнение по поводу немузыкальности «Исторических спевов» Немцевича, которые «невзирая на то, что к ним приложены ноты, не могут быть петы по причине своей обширности: ни одна грудь не выдержит этого труда, и даже внимание слушателей утомится» [Рылеев, 1971, с. 422].
Полижанровость поэтического источника прослеживается и в музыкальном тексте «Песен». Это определяется не только техникой следования за поэтическим текстом, но и участием в сборнике разных по профессиональным навыкам авторов. Объединяющим моментом для столь разных композиторов были, прежде всего, аристократические салоны Варшавы
В музыковедческой литературе помимо обобщенного определения песня в отношении некоторых музыкальных номеров цикла Немцевича можно встретить определение дума-баллада [Шопен, 1984, с. 401]. И. Бэлза даже делает смелый вывод, что «именно из жанра думы и развился жанр баллады, основными особенностями которого, связанными с народной традицией, является сочетание лирико-эпического "запева" с драматическим повествованием о героическом подвиге» [Бэлза, 1972, с. 86].
Структурной особенностью музыкального текста многих песен цикла Немцевича является намеренный уход композиторов от повторного строения, характерного для куплетной формы песни. Сквозное музыкальное развитие в песнях не только отражает принципы точного следования за словом с яркими драматическими кульминациями в особо значимых по смыслу местах поэтического текста, но и становится предтечей балладного формообразования в польской профессиональной музыке, расцвет которого можно наблюдать в творчестве Фридерика Шопена.
В исследованиях о жизни Шопена широко используется факт личного знакомства с Немцевичем: на благотворительном вечере, устроенном в честь Немцевича 24 февраля 1818 года в Радзивилловском дворце в Варшаве, восьмилетний Шопен был представлен публике и участвовал в концерте. «Это первое публичное выступление Шопена, за которое он удостоился благодарности от Немцевича, прошло с громадным успехом, и с тех пор мальчика стали часто приглашать в салоны польской знати» [Бэлза, 1960, с. 49]. Известно, что Шопен не только знал «Исторические песни», но и был увлечен ими, импровизируя за роялем, «доводил до слез польских патриотов, слушавших его импровизации, которые, по замыслу Фридерика, представляли собою сцены из истории Польши» [Бэлза, 1963, с. 208]. Однако из источников не ясно, использовал ли композитор в своих импровизациях музыкальный текст «Песен» или же только обращался к сюжетной фабуле стихов Немцевича?
Ноябрьское восстание в Варшаве 1830 года стало последним политическим событием в жизни семидесятитрехлетнего Немцевича, который «был членом Административного Совета Временного правительства и политическим советником генерала Скшинецкого, писал воззвания к народу, произносил речи для моральной поддержки людей , сочинил Декларацию детронизации царя Николая I, то есть был в гуще событий» [Ковенько, Павлючук и Байковска, 2007, с. 18-19].
Бешеная популярность «Исторических песен» Немцевича сохраняла свои позиции вплоть до восстания, став основой для новых патриотических песен повстанцев. Музыка некоторых песен цикла был полностью процитирована, но с другим поэтическим текстом. Отвечая историческому моменту, на смену лирико-эпическому осмыслению истории Польши пришли скандированные призывы к борьбе и песни для маршевойпоступи действующей армии повстанцев.
Немцевич умер в 1841 году в Париже. После окончательной эмиграции в 1833 году он был частым посетителем в парижском доме Шопена. Сохранилось свидетельство Ф. Листа, в котором композитор сообщал следующее: «Среди нас был престарелый Немцевич, думалось, самый близкий к могиле из присутствующих; он слушал, в молчании, с хмурой серьезностью и неподвижностью мраморного изваяния, казалось, свои собственные "Исторические песни", воссоздававшиеся в драматическом исполнении Шопена для старца, пережившего былые времена. В этих столь популярных текстах польского барда можно было слышать звон оружия, песнь победителей, торжественные гимны, жалобы славных пленников, баллады в честь павших героев!.. Они воскрешали в памяти длинный ряд славных деяний, побед, королей, королев, гетманов... и для старца настоящее становилось иллюзией, а воскресали призраки минувшего — с такою силой оживали они и являлись под пальцами Шопена!» [Лист, 1956, с. 220-221].