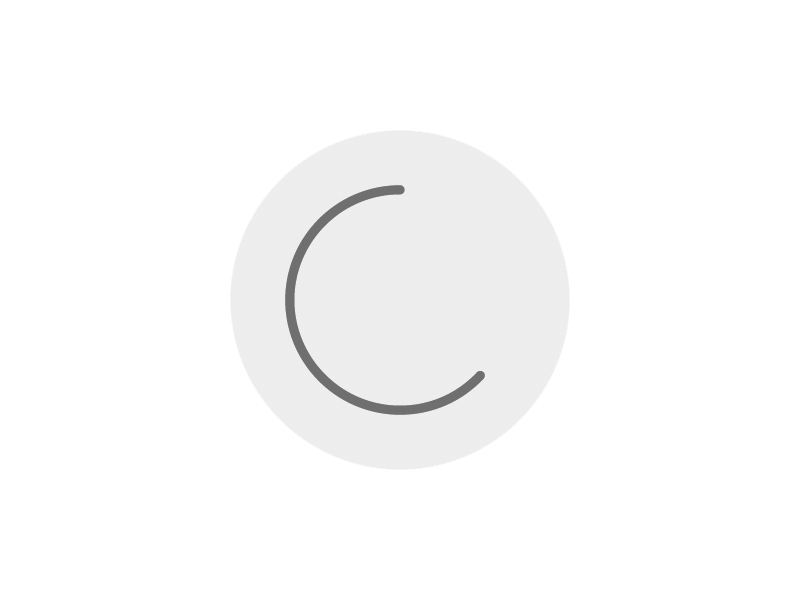Перед лицом тоталитаризмов. Тадеуш Боровский и Густав Герлинг-Грудзинский
Боровский и Герлинг: параллели
Польские писатели — твердят нам без малого лет сорок — как мало кто смогли рассказать о страданиях, которые принесли народу оккупанты. Люди людям уготовили судьбу, которую точнее всего описывают два слова: геноцид и лагерь… Но и это утверждение сомнительно, и правда остается неполной, по крайней мере, до тех пор, пока мы умалчиваем, кто был виновником этих бед. Как известно, до 1989 года в массовых смертях официально винили немцев и только немцев. А между тем, как не без лукавого удовольствия любят напоминать историки из-за Одра, «красные» лагеря не только послужили примером для нацистских, но и сами «гостеприимно» приняли столько же, если не больше, поляков. Особенно если вспомнить о начавшихся еще в 1920-е годы депортациях польских меньшинств из Украины и Белорусси.
Об этих политических «экзерсисах» мы знаем мало и наверняка больше не узнаем. Однако судьба распорядилась так, что о них довелось довольно много слышать польскому писателю, который смог убедительней других рассказать об Освенциме. Речь идет о Тадеуше Боровском. Его отец, бухгалтер пчеловодческого кооператива в Житомире, почти шесть лет провел на строительстве знаменитого Беломорско-Балтийского канала. Мать вкалывала в Сибири, на берегах Енисея. Конечно, Боровский никогда, по крайней мере, публично об этих семейных странствиях не вспоминал, однако предполагаю, что они не прошли бесследно для его философии лагеря, сформировавшейся в Освенциме.
Оба тоталитаризма, состязавшихся в бесчеловечности, безусловно, друг друга стоили. В польской литературе они запечатлелись с весьма показательной симметрией: в ней примерно поровну свидетельств, воспоминаний, и рассказов о немецком и советском «отделениях» ада, и по качеству эти тексты равны друг другу. Как повести Боровского так и «Иной мир» Герлинга-Грудзинского разительно отличаются от всего, что публиковалось на Западе. Оба писателя попали в лагерь примерно в одном и том же возрасте. Обоих воспитала одна и та же школа — польский лицей межвоенной поры. Оба были равнодушны к религии, их вполне можно было счесть агностиками. Обоих еще в студенческие годы приметила и признала литературная среда. Этих параллелей, пожалуй, достаточно, чтобы извлечь из сопоставления некоторые уроки.
1.
Боровский и Герлинг по-разному писали, и воспринимали их тоже по-разному. Проза Боровского, вошедшая в сборник «Прощание с Марией» (конец 1947 года), начала издаваться в Польше с апреля 1946-го; после окончания войны не прошло и года. Это были рассказы, художественное повествование, однако их воспринимали как прямое свидетельство. Именно поэтому они так взбудоражили публику и разделили мнение читателей.
Находкой Боровского был, как известно, созданный им повествователь, «форарбайтер Тадек». Его взгляд, суждения, истории, словом, его повествовательная перспектива… выдавала в нем человека, полностью приспособленного к лагерным порядкам. Но «приспособленный» не означает «согласный»! Форарбайтер Тадек, как и все, ненавидел, проклинал лагерь. Однако он жил в лагере и, чтобы выжить, должен был подчиниться его правилам. Этот персонаж — не законченный трус и не отъявленный злодей. Тадек способен на участливое слово, у него случаются великодушные жесты… Однако он сосредоточен только на себе и полностью лишен воображения. Заурядный человек, точнее, нормальный… Поэтому он совсем не удивляется, когда охранники стреляют в заключенных ради пяти марок за голову или еврейские häftlingе
Большинство послевоенных читателей воспринимали эти рассказы как документ, что, впрочем, неудивительно. Они отождествляли писателя с повествователем (как будто Боровский, назвав его своим именем, сам это допускал или даже провоцировал, словно пойдя на поводу у коварного писательского инстинкта, который любит запутывать тропы и утрировать многозначность текста!) Читатели менее тонкие — а может быть, сильнее потрясенные прочитанным? — обвиняли Боровского в презрении к мученикам или даже в абсолютном этическом нигилизме: писатель словно соглашается с нравственным падением своих соузников. Сейчас таких читателей проще простого обвинить в том, что они ничего не смыслят в литературе. Дескать, не поняли, что повествователь предстает у Боровского в двойной роли — жертвы и соучастника преступлений… и таким образом он дважды осуждает концлагерную систему — за то, что она делает с людьми, и за то, в кого людей превращает.
С «Иным миром» приключилась подобная (хотя и не во всем) история. Написанный в 1949—1950 годах и изданный сначала в 1951 году в переводе на английский, а затем в разгар холодной войны… — он должен, более того, обязан был прочитываться как свидетельство. Но свидетельство кому? Явно не полякам — их убеждать было не нужно. Однако сейчас мало кто отдает себе отчет в том, что западная публика никак не могла или, скорее, не хотела поверить ни в существование, ни в масштабы террора в СССР. Само упоминание о лагерях стало во Франции предметом громкого судебного разбирательства (взять хотя бы так называемое «дело Кравченко»). Однако после «открытия» нацистских лагерей в 1945 году мир уже хорошо знал, каким может быть тотальный террор, и тому, кто прочитал «Иной мир» или другую подобную книгу, сходство между тоталитаризмами, несомненно, бросилось в глаза.
Когда речь идет о свидетельстве, отчете, документе, обычно имеются в виду факты, прежде всего, факты «предметные», материальные, какие легко узнать и проверить. Если же вчитаться в «Иной мир», нетрудно заметить, что цель писателя — вовсе не сбор фактов, не документирование sensu stricto
«Иной мир» доброжелательно приняли и перевели на десятки языков (то же, в конце концов, случилось и с повестями Боровского). Герлинг-Грудзинский вспоминал, что рецензенты не раз подчеркивали художественные достоинства книги, вслед за Игнацио Силоне и английским критиком Эдвардом Крэнкшоу заверяли, что ее будут читать еще «много лет после того, как исчезнет описанная в ней институция», то есть советские лагеря. И все же что значит говорить о художественной ценности «Иного мира»? Описывать достоинства стиля? Да, Герлинг пишет густо, энергично, ярко. Если судить с эстетической точки зрения, ад ему, как и каждому художнику, должен быть признателен: еще бы, он живописно воссоздает устроенное, словно в издевку над несчастными зеками, жуткое театральное действо, мастерски рисует апокалиптическую картину барака, по ночам содрогавшегося от душераздирающего концерта из вздохов, всхлипов, вскриков и молитв, которые «в горячечном сне» срывались с уст врагов и предателей Сталина. Однако этих писательских удач, пусть даже многочисленных, недостаточно, чтобы отнести к художественной литературе книгу, которую читатели открывают и будут открывать, чтобы знать правду о лагерной системе. О том фундаменте, на котором держалась одна из самых бесчеловечных держав.
Но что в таком случае делает «Иной мир» достоянием литературы? В книге сохранились отчетливые следы первоначального замысла. Сначала Герлинг рассказывает о своем пребывании в витебской тюрьме, куда его бросили вскоре после ареста. Затем, после приговора, он на несколько дней застревает на «этапе» в Ленинграде, где его определяют в «благоустроенную» тюрьму: там содержится, главным образом, высший советский комсостав. Отсюда — несколько впечатляющих генеральских портретов. В конце концов он попадает в Ерцево, затерянное между Вологдой и Архангельском, в «лагерь назначения», и описывает его, отталкиваясь от первых впечатлений: «подвиги» банды урок, работа на лесоповале, куда отправляют большинство заключенных. Однако довольно скоро он возвращается к «историям», особым «случаям», повествует о товарищах по несчастью, которые выделяются из общей массы. Но чем? Не столько происхождением или положением, какое они занимали прежде, сколько манерой вести себя в лагере. Судьба «убийцы Сталина» (это вторая рассказанная Герлингом история) потрясает его настолько, что он пытается воспроизвести, точнее, представить, что происходило в душе несчастного.
Именно так, на первый взгляд, спонтанно, строится на наших глазах «Иной мир». Вполне возможно, работая над ним, писатель, вместо того, чтобы следовать пунктам заранее расписанного плана, полностью доверился своей творческой интуиции. История зека Герлинга-Грудзинского образует общую рамку повествования, которое заканчивается в тот момент, когда зек становится польским солдатом, то есть свободным человеком. Однако писатель вовсе не стремится поведать о собственных несчастьях; его задача — рассказать о ГУЛАГе. Поэтому он столь обстоятельно описывает арест, лагерный лазарет, кухню и тому подобное. Но внимание автора приковано, прежде всего, к частному человеку. К отдельной личности, которая чем-то удивила или потрясла. Он искренне пытается понять, проникнуть в ее тайну, которая словно предопределяет судьбу…
Именно в этот момент повествование начинает тяготеть к художественному вымыслу, хотя этот вымысел всегда предстает догадкой или предположением. Такое соскальзывание в область вымышленного происходит несколько раз и всегда по одной и той же схеме. Как правило, Герлинга-Грудзинского более всего привлекают судьбы тех узников, которые старались противостоять лагерной неволе, одержать над ней верх… Но это было возможно только ценой безумия, заведомо обреченного бессмысленного побега, самопожертвования или самоубийства! Чтобы осмыслить, объяснить такие поступки, нужно писательским воображением проникнуть вглубь души, а точнее, постичь ее, увидеть «насквозь». В конечном счете, правда о лагерном человеке может быть познана только изнутри.
2.
Боровский приходит к прямо противоположному выводу. Мы довольно хорошо знаем первые шаги писателя на литературном поприще. До заключения он был известен главным образом как поэт. Освенцимские рассказы родились из писем, которые он посылал (точнее, тайком передавал) невесте; ее держали в соседнем концлагере, в Бжезинке. Потрясенный «лагерным человечеством», Боровский неотступно размышлял о месте, в котором оказался. «Мы закладываем основы какой-то новой, чудовищной цивилизации», — писал он. После освобождения отправитель по памяти воссоздал письма, и они составили первую часть повести-воспоминания «Мы были в Освенциме», опубликованной в 1946 году в Мюнхене тремя уцелевшими, в том числе Боровским, который редактировал всю книгу и, говорят, без колебаний правил тексты своих товарищей. Они вспоминали, что Боровский, работая над книгой, стремился упростить повествование и, насколько это возможно, свести его к фактам… Форарбайтер Тадек — литературное альтер-эго Боровского, появился в третьем рассказе сборника. Вместе с ним родился — как литературный факт — спор о непреходящем значении этой книги.
Повествователя у Боровского отличает радикальный отказ от какой бы то ни было интроспекции. Тем более поразительно, что писателю удалось передать реальность концлагеря, в которой люди, как можно предположить, проявляют себя, думают, переживают по-разному. В следующей книге «Прощание с Марией» (1948) тот же Тадек еще сдержанней: он подмечает и описывает только жесты и внешние действия персонажей — заключенных или охранников, — а также воспроизводит словесные аналоги этих действий, то есть фрагменты их разговоров. Он не пытается заглянуть своим героям в душу, не прибегает к монологам, не помогает себе «внутренним диалогом», к которому обращался Хемингуэй, пытаясь показать внутренний мир героев таким, каким представляли его другие персонажи. «Рассказы Боровского, — пишет Вернер — один из наиболее последовательных примеров бихевиористского повествования, причем не только в польской литературе»
Почему Боровский столь решительно отказывается от попыток постичь внутренний мир своих героев? Я объясняю это так: писатель постепенно пришел к тому, что «человек лагерный», идеальным воплощением которого был форарбайтер Тадек, по сути, не мог сохранить полноценную внутреннюю жизнь. Все, из чего обычно эта жизнь слагается — воспоминания и надежды, сочувствие, увлеченность и восторг, нравственные достижения и муки совести, — только мешает в борьбе за выживание. Следовательно, надо «стать проще», притупить, свести к минимуму чувства. Если заключенный умудрялся остаться в живых, то лишь потому, что он был эмоционально глух и морально опустошен, то есть приспособился к ситуации, в которой, ясное дело, без всякой вины оказался. Потому что трезво оценивал свои возможности, точно рассчитывал действия, ибо лучше других знал, как работает лагерная машина. Означает ли это, что он никогда не помогал соузникам, что его радовали страдания других? Упаси Боже. Он всего лишь, как того требуют правила самозащиты, ограничивался самым необходимым, более или менее безопасным. Мало-помалу у него отнималась способность суждения — как о других, так и о самом себе.
Рассказывая о заключенных, которые принимали прибывающие в Бжезинку эшелоны с евреями, Боровский уточняет: «Они были людьми не злыми, но привычными», — то есть приспособились к лагерю. Это все, что о них можно сказать. В современном мире умение ловко приспособиться к окружению считается достоинством, если не добродетелью. Так почему же мы должны осуждать нашего форарбайтера? Уже в 1945 году Боровский увидел удручающую банальность зла… и смог ее описать.
Но чтобы жизнь могла начаться заново, надо совершить суд — оправдать или осудить тех без вины виноватых, кого угораздило выжить. Боровский оставляет это читателю. Только читатель — он ведь тоже мог оказаться в Освенциме! — только он должен решить, что прощается, а что нет. Но такое различение — в мире без Бога! — невыполнимая задача. Передать лагерный опыт невозможно. Никто, на самом деле, не может «вжиться в ситуацию» узника. Чтобы это прокричать, Боровский категорически отказывается лезть своим героям в душу.
Но не лучше ли сразу сказать всю правду, тем более что сейчас она видна гораздо лучше, чем из 1947 года? Как и многие молчащие свидетели преступления, Тадеуш Боровский был глубоко убежден, что в Освенциме потерпела банкротство человеческая цивилизация, потерпел крах человек. Уцелеть в лагере — непростительно: чтобы там выжить, нужно было попрать все запреты, которые выработала европейская литературная и этическая традиция.
Но гораздо хуже, что эта цивилизация ничего не противопоставила злодейству лагерей. В них всего лишь доведены до логического предела многие из ее фундаментальных оснований. Конкуренция, приведшая к расцвету капитализма. Государственные «резоны», ради которых общее благо ставится выше прав и свобод отдельной личности. Приспособленчество, иерархии, опирающиеся на деньги, разделение труда. Главенство общегосударственных законов над интересами местных («второсортных») общностей, которые нередко считают ненужными, а порой и опасными. Наконец, появление все более изощренных технологий, которые обеспечат всеобщее преуспеяние и благоденствие! Таковы, полагает Боровский, истинные причины, по которым судья, не задумываясь, посылает в концлагеря, предприниматель получает от них доход, а офицер, весело насвистывая Моцарта, отправляет бесполезных рабов в крематорий. Концлагерь — не ошибка европейской цивилизации, а ее порождение, с которым без зазрения совести согласились самые развитые (они же самые лицемерные) мировые сообщества.
Так что мы все, «мы из Освенцима», как пишет Боровский, несем на себе вину. Но вместе с тем винить нас не в чем, ибо мы — дети цивилизации, правду о которой открыл Освенцим. Так давайте до основанья разрушим эту цивилизацию и поскорей построим на ее месте новую. Думаю, Боровский искренне и чистосердечно принял коммунистические идеи, пусть даже его «обращение» было болезненным и длилось недолго. Искренне в том смысле, что утопия полного переустройства человеческой среды была для него единственной возможностью снять освенцимское проклятие и хоть как-то оправдать собственное существование.
Ибо он надеялся — действительно ли всерьез, никто не знает и никогда не узнает — на спасительный радикальный переворот, который тут же превратит людей в ангелов, и был готов этот переворот поддерживать perfasetnefas
3.
По сути, только писательство, только искусство никогда не предавало Боровского. Его интеллектуальная стратегия была самоубийственной, его морализм (или суперморализм) — крайне сомнительным, ибо он, так или иначе, сводился к превозношению художника — единственного, кто хочет и способен сказать правду. Отважиться на слова о «фашистской логике мира» может только человек в равной мере разочарованный и высокомерный. Но Боровский прекрасно понимал, что именно эта формула емко и четко описывает, в чем состоит литературная самобытность его произведений. Все, что не было кровью или циничной жестокостью, все, что не свидетельствовало о концентрационной сущности человеческого сообщества (точнее, всех человеческих сообществ), казалось ему приторным, пустым, лживым, художественно недоброкачественным. В третьей книге, вызвавшей фарисейское недовольство официальной критики, ему, как ни в какой другой, удалось (благодаря хладнокровной жесткости, испепеляющей мир презрением правдолюбца) придать единство, плотность и блеск коротким рассказам, в которых снова и снова воссоздается образ мира из камня, «каменного мира», окончательно и бесповоротно отданного злу. Теперь Боровскому не хотелось «оправдываться» Освенцимом, ибо в Освенцим превращалось каждое место на земле, и каждое сообщество, увиденное без прикрас, распадалось на пары «палач—жертва».
Так происходит уже в «Битве под Грюнвальдом», где в роли лагерных капо выступают американцы, и в «Путешествии в пульмане», где прием переселенцев, прибывших с запада и востока, до боли напоминает прибытие транспорта в концлагерь. Сейчас уже можно сказать, что эта, казалось бы, рыхлая повесть, достойно свидетельствует о смелости писателя и о лояльности критиков, иной раз предпочитавших «не понимать» Боровского, ибо прямой ответ на вопрос «что хотел сказать автор» в тогдашних условиях мог сойти за донос… В конце концов Боровский оказался в ситуации почти шизофренической: как писатель он вынужден был сносить хвалу и хулу одновременно!
Ничего подобного нет у Герлинга. С самого начала он хочет свидетельствовать — и только свидетельствовать, но довольно скоро убеждается, что ему не удастся передать всю правду (или хотя бы к этой правде приблизиться), не прибегая к литературным «вольностям» или к попыткам выразить душевное состояние своих героев… Однако, в отличие от Боровского, который словно прячется за форарбайтера Тадека, чтобы остаться всего лишь «хронистом», рукой, бестрепетно описывающей лагерный кошмар… так вот, в отличие от Боровского Герлинг постоянно присутствует в «Ином мире» как личность и участник событий. При этом он всякий раз подчеркивает свою инаковость (и, может быть, даже исключительность) среди не один год отмотавших зеков и делает это потому, что доподлинно знает: цель лагеря — обезличить, внутренне опустошить заключенных. Самобытность и автономия, моральное усилие, отделяющее разумное сознание от измученного тела, собственного и таких же тел ближних… воспринимаются в лагере как форма протеста. Вместе с тем примечательно, что свои телесные переживания Герлинг описывает нехотя, словно стыдясь и одновременно дивясь, например, своему — пусть даже онирическому! — падению: «Мне самому тогда снились сцены эротически-людоедские; любовь и голод вернулись к своему общему биологическому корню и извлекли из глубочайших закутков подсознания женщин, вылепленных из сырого теста <...> истекавших кровью и молоком…»
Рядом с соузниками Герлинг, как может, сохраняет свою идентичность. Несомненно, она его ко многому обязывает. И, однако, ему крайне трудно отождествить себя с другими — слишком разные у них происхождение, среда, образование, взгляды… Боровский, напротив, подчеркивает, что люди, «выкованные» борьбой за существование, обезличенные ею, очень похожи. «Мы из Освенцима», — твердит он. Герлинг, возможно, сказал бы иначе: «Этот, этот, а еще тот, с которыми я сидел в Ерцево». Единичность интересует его гораздо больше, чем подобие судеб, ибо такое сходство пугающе близко подводит к расчеловечиванию:
Еще сутки я провел в вологодской тюрьме <...> В подвале, в маленькой камере с отверстием величиной с голову вместо окна, я спал на голой, без настила, земле, среди окрестных мужиков, которые не отличали дня от ночи, не помнили, какой сейчас месяц и время года, не знали, сколько уже сидят, за что сидят и когда выйдут на волю. Подремывая на своих меховых тулупах — не раздеваясь, не разуваясь, не видевши бани, — они в горячечном полусне бредили о семьях, домах и животине
Там же. С. 32. Примеч. пер. [6].
Спору нет, это были идеальные зеки.
По сути, Герлинга интересует только одно: как отдельная личность, обреченная на оглупление, утрату собственной воли, внешнюю неволю, а потом, иногда совсем скоро, — на смерть, старается вырваться из этой обреченности, не поддаться судьбе, которую предписывает ей приговор. Именно в этом усилии — независимо от того, увенчается оно успехом или нет — сохраняется неистребимой личность, точнее, неповторимая личностность, пусть даже ее «носитель», сам человек, чаще всего гибнет… Чтобы понять это усилие, его недостаточно наблюдать со стороны. Надо мысленно проделать путь, который прошла взбунтовавшаяся жертва; на худой конец надо этот путь представить или придумать. Именно поэтому свидетельское повествование Герлинга-Грудзинского постепенно приближается к повести, преобразуется в подобие художественного текста, в котором все отчетливей проступают «литературные» черты.
Так рождается своего рода братство повествователя и героя, однако оно, следует заметить, весьма избирательно. Читателя «Иного мира» потрясают не только бездны унижений; порой его обескураживает требовательность, даже безжалостность повествователя. Не раз у Герлинга прорывается почти презрение к слабым; конечно, речь идет о моральной слабине. Скрыть это презрение или неприязнь он не может или не хочет, справиться с ними тоже не удается. Взять хотя бы рассказы о женщинах в лагере или сравнение русских и иностранцев — не обязательно поляков! От презрения — или неприязни? — избавляет его только одиночество лагерного лазарета, где он впервые осознает, что «одиночество — то состояние в жизни человека, которое граничит с абсолютным внутренним покоем, с обретением личности»
Поистине достойным уважения в этой картине мире остается лишь тот, кто хотя бы единожды рискнул собственной жизнью, чтобы сохранить если не свободу, то автономию, собственное лицо, самостояние. Только бунт, убежден Герлинг, делает человека человеком. Такова этика сильного, этика воина, борца (за правое дело)… Этика элиты, заставляющая вспомнить о Конраде. Точнее, о Конраде, прочитанном в Польше 1930-х годов XX века.
Из книги: Блонский Ян. Поэзия как спасение. Очерки о польской поэзии второй половины ХХ века / Пер. с польского В. Окуня, С. Панич и В. Штокмана. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2022.
Книга вышла из печати!