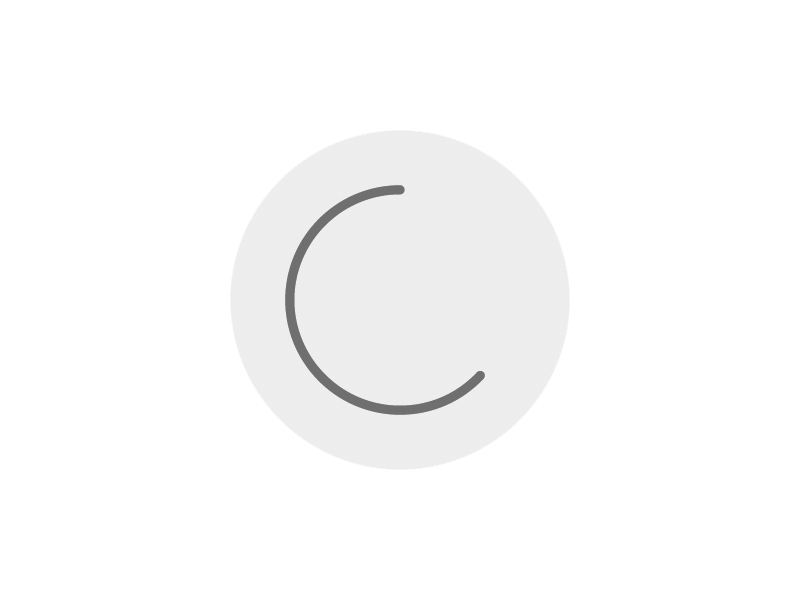Над Неманом. Часть первая. Глава шестая (2)
Царствующую повсюду тишину нарушало только монотонное шуршание рубанка по лежащему на земле обрубку дерева. Анзельм снял перед памятником шапку, но тотчас же снова покрыл голову и в молчании, нахмурив брови, погрузился в работу. Медленно, почти машинально, но непрестанно его бледная худощавая рука проводила рубанком взад и вперед по поверхности обрубка. Полусгнивший крест, который, вероятно, не вынесет первого порыва осеннего ветра, предстояло заменить новым. Несколько лет назад ту же самую работу справлял ныне одряхлевший полусумасшедший Якуб. Теперь пришла очередь Анзельма охранять памятник; а памятник этот был, несомненно, очень дорог для многих поколений, — ведь в каждом из них был кто-нибудь, кто не дозволял этому обломку старины исчезнуть с лица земли. Новый крест покроют старые фигуры, краткая надпись вновь забелеет на красном подножии памятника, и все снова будет так, как было триста лет тому назад, как было в ту отдаленную пору, когда двое каких-то неизвестных, неведомых людей легли на вечный отдых в одну могилу.
Юстина смотрела на старый памятник, и в ее голове ясно пронеслись слова старой песни:
Кто придет сюда,
Надпись тот всегда
Прочитает:
«Здесь лежит чета,
Здесь их неспроста
Смерть венчает!»
Любили ли они друг друга? Люди ли их разлучили, и вновь соединила могила? Как они жили? И почему они и после смерти так надолго остались в людской памяти?
В двух шагах от нее на пне сидел Ян и улыбался ей полушутливо, полутаинственно.
— Дядя все знает и очень любит рассказывать эту историю. Нужно его только хорошенько попросить — он расскажет…
Действительно, было видно, что Анзельм борется с желанием поговорить о чем-то. Он опустил рубанок, посмотрел на Юстину и спросил:
— Зачем? На что вам это нужно?
Но спустя минуту он снова поднял глаза и долго не спускал их с бледного, печального лица молодой девушки. В ее голове этот памятник возбуждал рой сказочных мечтаний. Она не смела просить этого незнакомого человека, который со своей гордой независимостью и прошлым, полным каких-то страшных страданий, казался ей в эту минуту еще более важным и суровым. Но Анзельм прочел просьбу в ее глазах и оглянулся на солнце: оно совсем побагровело и до половины скрылось за бором.
— Мало же я сегодня наработал! А все беды от молодежи идут. Работать мешают, время отнимают, обо всем расспрашивают, а тут и рассказывать-то не о чем!
Никогда еще его губы под седыми усами не складывались в такую добродушную улыбку; он теперь говорил весело, почти шутливо.
— Ну, что ж делать? Если вы хотите услышать эту историю, то я с удовольствием… Никто этой истории не описывал и в книжках ее не печатал. Один человек рассказывал ее другому, и так издали, как река через разные края, она притекла к нам от самых прадедов, от дедов и отцов наших. Мне рассказывал ее старый Якуб, когда я еще босиком бегал и пас телят, а сам он узнал неизвестно от кого, — может быть, от своего деда или прадеда, — в их семействе все долго живут.
Он отложил рубанок в сторону, сел на камень и еще раз ласково улыбнулся.
— Сказки бабам, а то, что я расскажу, не сказка!..
Он прислонился сгорбленной спиной к высокому выступу камня, поросшего в этом месте седым мхом, а на баранью его шапку и на плечи свисали тонкие ветки терновника.
— Было это давно, лет сто спустя после того, как литовский народ принял христианскую веру. Тогда в этот край пришло двое людей. Как их звали, кто они такие, — никто не знал; только по их речи да по платью можно было догадаться, что пришли они из Польши. Зачем они бросили родной край и пришли сюда — тоже было неизвестно. Когда их встречали и спрашивали, как их зовут, они отвечали, что при святом крещении их нарекли Ян и Цецилия. А когда их допытывали, куда и зачем они идут, они отвечали: «Ищем пустыни!» Видно было по всему, что они боялись погони и хотели скрыться от людей, жить только под Божьим покровительством. И хотя наверное это неизвестно, однако ходили слухи, что происхождением они были неравны: он был загорелый и очень сильный, что редко бывает среди панов, а в ней — шла ли она, стояла ли, молчала или говорила — видна была знатная госпожа. Но как там было сначала, это все равно; достаточно, что они без труда нашли то, чего искали. Весь здешний край в то время был непроходимой пущей, в которой Господь Бог рассеял немало озер голубых и лугов зеленых, а люди построили кое-где селения и занимались каждый своим делом. В одних местах над озерами или речками сидели рыбаки и бобровники; в других, где стояли липовые леса, пчеловоды отбирали мед и воск у трудолюбивых Божьих созданий; иным король наказал, чтоб выхаживали для него соколов, и оттого их называли сокольниками, а других одарил волей, с тем, чтоб они ему всякие припасы посылали, и потому стали они боярами или вольными людьми. Земли они не обрабатывали; огороды у них были, но в них росли только репа да лен; овец они не держали, шерсти у них не было, приходилось носить холщовую одежду. Хлеб редко где можно было видеть, разве только вблизи больших селений, а в пуще, в новых местах даже и не слыхали о нем. Зато были такие люди, что откармливали свиней желудями, — их называли скверным именем: свинятники; другие жили при лугах, приручали буйволов — отсюда пошли буйволятники. О деньгах во многих местах и понятия не имели, а если кто хотел купить что-нибудь, то давал звериную шкуру — бобровую, медвежью, лисью, кунью или расплачивался медом, откормленной свиньей — тем, что имел, одним словом. Хаты у них назывались нумы, и были они бедные, грязные, без печей и труб, потому что среди лесного народа не было ни одного каменщика. В христианского Бога уверовали все, но в глубинах пущи многие еще поклонялись идолам и жили с двумя, с тремя женами.
Ян и Цецилия прошли через всю пущу, видели многие озера и луга, заходили к рыбакам, к сокольникам и к боярам, заходили к свинятникам и к буйволятникам, но нигде им не понравилось так, как здесь, на берегу Немана, на том самом месте, где теперь стоит этот памятник… Видно, сообразили, что тут погоня едва ли может настигнуть их, что тут им легче всего будет жить под Божьим призором. Может быть, так уж было заранее им предназначено поселиться на этом клочке земли и начать бедный, хотя и долговечный род…
Медленный тихий голос рассказчика на горе словно соперничал своей монотонностью с однообразным журчанием ручейка внизу. По временам Анзельм останавливался и искал в памяти выражение или слово, которое не употреблял в обычной жизни, но не хотел выкинуть из старого сказания. Теперь с видимым напряжением мысли он сплетал в голове нить повествования, боясь сбиться или пропустить какое-нибудь событие.
— В то время, — заговорил он, — на этом месте не было ни одного вершка вспаханной земли, не было следов людского жилища. И с той и с этой стороны реки, направо и налево, была только одна сплошная пуща. Ян и Цецилия облюбовали себе то место, где теперь стоит памятник, а тогда стоял старый дуб — такой старый, что в его дупле можно было целого буйвола спрятать, — вот под этим-то дубом они первым делом построили себе хату, такую же нуму без печи и трубы, чадную, бедную и убогую. Построить лучшую они и не могли сначала.
Короче сказать, он рубил деревья, обтесывал бревна и сколачивал их вместе, а она собирала орехи и дикие яблоки, готовила рыбу, доила буйволицу, которую скоро приручила к себе, чинила одежду, а когда приходил вечер, и Ян ложился под дубом с натянутым луком наготове, чтобы во всякую минуту оборониться от дикого зверя, — Цецилия садилась у его изголовья, играла на лютне и пела. Верно, из высокого дома была, потому что пела и играла, как ангел, а ручки у нее были белее снега. Да ненадолго этого хватило: в трудах да невзгодах постоянных, в постоянном страхе Цецилия скоро загорела, окрепла, стала похожа на буланую лань, которой труды и одинокая жизнь нипочем. Как у прародительницы рода человеческого, волосы у нее были золотистые и такие длинные, что она могла закутаться в них с головы до ног и окутать свою лютню. Когда поздним вечером она пела над утомленным мужем, он сквозь сон гладил ее по волосам, а на восходе солнца вставал веселый и бодрый, ибо ее любовь утешала его сердце и подкрепляла его силы.
Однако, несмотря на любовь и согласие, им по временам приходилось так трудно, что другим людям и не понять этого. Все вокруг было не так, как теперь, — дичь страшная, глушь… По лесу ходили стада зубров, туров, медведей, волков; в ветвях деревьев сидели настороже хищные ястребы и кречеты; кривоносые орлы широко раскидывали свои крылья. По ночам стонали совы, а на деревах сидели рыси, и глаза их светились словно огоньки. По временам вороны и галки черной тучей закрывали все небо, а дикие лошади оглашали лесную глушь своим пронзительным ржанием. Близ реки и во всех сырых местах водилось видимо-невидимо жаб, змей, лягушек. И река была не такая, как теперь, а гораздо глубже и быстрее, и воды ее, разливаясь, покуда глаз хватал, бились в берега и пробивали себе новые рукава, — вот и овраг этот прорыли.
Как они все это вынесли и вытерпели, Богу одному известно; достаточно, что все вынесли и вытерпели. Уж именно правду сказал кто-то, что ни один человек силы своей не знает, пока она не потребуется. Правда и то, что в то время многое и благоприятствовало им. Всякий рабочий инструмент и охотничье оружие они принесли с собой или на месте сделали, и сделали как следует, крепко. Лес давал им дикие яблоки, орехи, ягоды, грибы; к реке на водопой сбегались стада оленей и серн; наверху жили белки, а внизу скрывались тысячи зайцев и куниц; в воде бобры строили свои дома. Нужно было только опустить в воду удочку, сеть или вершу, чтобы вытащить такую рыбу, каких теперь и в помине нет.
А прелесть-то какая была вокруг! Соловьи пели по целым ночам, ласточки и голуби сами искали себе убежище под кровлей нумы. Цецилия приручила к себе лань, и та неотступно следовала за своей госпожой. Одним словом, и хорошо там было, и тяжело, и страшно, и безопасно. Много вынесли первые люди, поселившиеся здесь, — и холода, и голода натерпелись вдоволь.
Может быть, двадцать лет прошло в такой муке, как по пуще пошел слух об этих людях, что они своим трудом и уменьем расчистили несколько десятин леса, засеяли поля хлебом и засадили разными растениями, построили себе дом, чистый, с печью, как следует; пошел слух, что у них можно добыть вещи, которых на много верст вокруг и в помине не было. Потянулись к ним люди из разных поселений посмотреть, что за чудеса такие творятся, а придя, оставались надолго, приглядываясь к невиданным еще ремеслам. Иные просили, чтобы их оставили навсегда, но Ян и Цецилия дождались более верных и надежных помощников. Шестеро сыновей и шесть дочерей родилось у них и выросло у берега этой реки, в глубине этой пущи, под покровительством Божиим.
Один из сыновей взял себе жену у рыбаков, другой у сокольников, третьему судьба послала боярскую дочь, четвертому бобровницу, а пятый — он ловил рыбу и продавал ее по разным местам — привез жену из Гродно, которое в то время по-русски называлось Городно, потому что там много огородов было. На русской и женился пятый сын Яна и Цецилии — в то время литовская или польская кровь часто смешивалась с русской, и не было от этого никому ни вреда, ни неприятности. Откуда сыновья добывали себе жен, оттуда приезжали женихи свататься за дочерей, но не увозили их далеко, а оставались тут же, строили себе хаты, рубили лес, хлеб сеяли. Так прошло лет восемьдесят, а может быть, и больше с того дня, когда Ян и Цецилия в первый раз ступили на эту землю…
Анзельм, утомленный непривычным напряжением памяти и мысли, остановился. Его впалые щеки разгорелись, глаза блестели из-под бараньей шапки. Он обернулся в сторону солнца; оно садилось за лесом, но по небу еще тянулись ярко-красные и золотистые полосы и отражались в зеркальной поверхности реки.
— День кончается, и моя история идет к концу, — улыбаясь, сказал Анзельм. — Но в конце-то самая суть и есть…
Он заговорил немного громче и живее, чем прежде:
— Восемьдесят лет, а может быть, и больше миновало с того дня, как Ян и Цецилия в первый раз ступили на эту землю. Нашлись люди, которые донесли самому королю, какие чудеса творятся где-то в Литовском крае, в самой глухой пуще, у берега Немана. Царствовал тогда король, которого двумя именами называли: Зигмунтом и Августом. Был он страстный охотник и в ту пору забавлялся охотой в своих Кнышинских лесах. Сообразил король, что от Кнышина до того места, о котором люди рассказывали, не очень далеко, приказал ловчим трубить сбор и пустился в дорогу. Ехал он, ехал, — ехал, ехал, а за ним разные важные паны, и, наконец, увидел, что пуща кончается. Деревья редели и расступались, точно давали дорогу едущим. Король посмотрел в просеку, вскрикнул от удивления и в шутку сказал своим вельможам: «Ого! Посмотрите, панове: кто-то готовит мне новое королевство!»
Тут они все выехали из лесу и остановились, глазам своим не веря. Там, где прежде была дичь да глушь беспросветная, служившая убежищем диких зверей, лежала большая равнина с желтевшим на ней жнивьем. На жнивье, словно высокие башни, стояли скирды разного хлеба; сто пар волов пахали землю под озимое, а на гладких полях бегали прирученные лошади, паслись стада рыжих коров и белых овец. На двух пригорках две ветряные мельницы махали своими крыльями, в липовых лесах гудели тысячи пчелиных роев, а в ольшанике на всех ветках висели огромные грачиные гнезда. Сто домов, отделенных друг от друга огородами, стояли, вытянувшись вдоль реки, и от их труб, словно из церковных кадил, золотистый дым поднимался прямо к небу. На яблонях и сливах листа не было видно — так они были усыпаны плодами; на зеленой траве сушился лен и белели длинные ленты холстов; в хатах стучали кросна, перед хатами на ветвях и плетнях сушилась только что окрашенная пряжа, а на крышах дозревали громадные желтые тыквы. Домашняя птица, земляная и водяная, рылась в песке или с криком летела к реке, откуда возвращались рыбаки с сетями, наполненными живой рыбой. Реку король видеть не мог, но понял, где она течет, по тому высокому песчаному берегу, на котором стоял бор, еще никем не тронутый… вон тот самый.
Анзельм указал пальцем на темную полосу бора. Голос его дрогнул и оборвался.
— Вон тот самый!.. Тем временем, — продолжал он, немного успокоившись, — король ехал, оглядывался вокруг и радовался. Молод он был тогда, только что на престол взошел. Конь под ним был арабский, огневой, в сбруе, сплошь усыпанной золотом и драгоценными каменьями. На королевской шапке горело брильянтовое перо, а пурпурная мантия, опушенная соболем, спускалась ниже стремян. Вокруг короля ехали гетманы, сенаторы и иные паны — конь один лучше другого, а на самих панах столько драгоценностей и золота, что глядеть больно. За ними ехали сокольники с кречетами, изнеженные розовые пажи, прислуга и дальнозоркие стрелки. А ловчие не отнимали от уст золотых труб и возвещали широкой равнине, глубокому Неману и дикому занеманскому бору о прибытии короля…
И вот из ста домов и из ста огородов, с полей и с лугов, с реки сбежались люди поглазеть на диковину. Они ничуть не испугались, а только смотрели, выжидая. Король и спрашивает:
— Жив ваш родитель?
— Жив и в добром здоровье пребывает, — отвечал, выступив перед королем, старший сын Яна и Цецилии, сам весь сморщенный и седой, как лунь.
— А родительница ваша жива? — опять спрашивает король.
— Жива.
Тогда король говорит:
— Хотел бы я увидеть их.
Из самого лучшего дома сыновья и дочери, внуки и правнуки вывели Яна и Цецилию. Столетние старцы шли сами, ни в чьей помощи не нуждаясь, в белых, как снег, льняных платьях, как два белых голубя, один за другим. Он опирался на секиру, насаженную на длинную рукоять; она, распустив свои седые волосы, гладила ручную серну. Когда они остановились, король, к общему изумлению, снял свою шапку и так низко опустил ее, что с брильянтового пера посыпались звезды.
— Кто ты, старец? — спросил он у Яна. — Откуда ты пришел, как зовешься и какого звания?
Старец, как пристало, поклонился королю, и смело ответил:
— Пришел я из тех стран, по которым протекает Висла; имя свое я открою одному Богу, когда предстану перед Его святым судом, а звания я был низкого, пока не пришел в пущу, где все живущие равны пред лицом матери-земли. Я — из простонародья, но моя жена из высокого рода, она разделила со мной изгнанническую жизнь.
Король долго думал, затем обратился к панам и сказал:
— Я уверен, что вы одобрите, а следующий сейм утвердит распоряжение, которое я сейчас сделаю.
Паны, вероятно, поняли королевскую мысль, закивали головами, и разом крикнули:
— Иначе и быть не может, государь! Мы сами желаем этого и просим ваше величество.
Тогда король сказал Яну:
— Ты, старец, по желанию своему, останешься безыменным и как родился простым человеком, таким и в могилу ляжешь. Но так как ты достаточно проявил свое богатырское мужество, отнял эту землю у пущи и диких зверей, завоевал ее не мечом и кровью, а трудом и потом, открыл ее недра для многих людей, приумножив тем богатства отечества, то детям твоим, внукам и правнукам, до последних потомков и исчезновения твоего рода, мы даруем фамилию, от богатырства твоего произведенную.
И, подняв правую руку над удивленным народом, король громко провозгласил:
— Сей род, идущий от человека простого происхождения, приравнивается к родовитой шляхте и отныне может пользоваться всеми правами и преимуществами, рыцарскому сословию принадлежащими. Дарую вам дворянское достоинство и повелеваю вам именоваться Богатыровичами, а в гербе вам иметь голову зубра на желтом поле, ибо ваш прародитель первый победил зубра и его владения преобразил в это плодородное поле…
Рассказчик умолк; его выпрямившаяся фигура с бараньей шапкой на голове резко выделялась на сером фоне камня. Он поднял руку кверху и добавил:
— Происходило это в году, изображенном на памятнике, — в тысячу пятьсот сорок девятом…
Ярко-огненные и золотистые полосы на западе, над бором, мало-помалу угасали. С восточной стороны надвигался сумрак, и вскоре на небе там и сям замигали звезды. Во мраке против умолкшего Анзельма рисовались фигуры двух людей, сидевших на пне упавшего дерева. Женщина уронила руки на колени, мужчина оперся подбородком на ладонь. Они еще слушали. Через несколько минут человек, сидевший на камне, снова заговорил:
— Такова история наших предков, таково происхождение наше, и вот почему мы сидим на этой земле.
Потом голосом человека, который в памяти своей будит дремлющие воспоминания, он продолжал:
— Разное бывало впоследствии в роду, происшедшем от Яна и Цецилии. Власти мы не имели никогда и ни над кем, крови и пота ни из кого не выжимали. Бывало, что иные из нас на войны ходили или со своими саблями и глотками вслед за панами являлись на сеймы и сеймики. Одни проживали на панских дворах, добиваясь какого-нибудь выгодного места или положения; другие, нажив деньги, поселялись где-нибудь на собственном фольварке и становились сами родоначальниками панских фамилий. Но по большей части почти все мы сидели в своей норе, собственными руками хлеб добывали из недр матери-земли. Клочки земли, словно ризы Христа, беспрестанно делились между нами, и подчас, Божьим попущением или по злобе людской, и вовсе исчезали. Однако мы все-таки держались своих гнезд, больших или маленьких, и удержались до сих пор. Теперь нас лишили дворянства наших прадедов, мы называемся мужиками, по-мужичьи и живем… Но это все равно. Все мы жерди из одного плетня… Беда в том, что убожество наше все растет и духовный мрак охватывает нас все сильнее…
Он покачал головой.
— Никто не поверит, что историю наших предков во всей околице, может быть, знают человека три-четыре. Старый Якуб знает — да уж он человек почти отпетый; я знаю; знал когда-то и Фабиан; знает, может быть, Михал — вы видели его — франт такой, усы кверху закручены… Другие о таких вещах не заботятся, да в нужде, в горестях и помнить о них не могут… Мужиками быть или панами — все равно… но в скотов обратиться — это грустно и тяжело.
Анзельм опять сгорбился, и голова его в бараньей шапке поникла. Медленным, задумчивым шепотом он закончил:
— Счастье то лицом оборачивается к человеку, то спиной, — все на свете временно и скоропреходяще… все на свете, как струя в реке, проплывает мимо; как лист на дереве — желтеет и гибнет…
Девушка встала и, быстро подойдя к грустно задумавшемуся старику, прильнула губами к шершавому рукаву его армяка.
— Спасибо! — шепотом, горячо проговорила она.
Он отдернул руку, отклонился назад и с минуту молча смотрел на нее.
— До… добрая! — заикаясь, с изумлением вымолвил он.
Женщина отошла, обняла руками тонкий ствол березы и устремила задумчивые глаза в сумрак.
Как счастливы, о, как безмерно счастливы были люди, которые носили в сердце такую любовь и которым суждено было выполнить такую великую задачу. Она, Юстина, тоже с наслаждением и гордостью пошла бы в середину самой дикой пущи, скрылась бы в какой-нибудь самой убогой нуме, только бы хоть чем-нибудь наполнить пустыню своего сердца и жизни, только бы сознавать себя любимой и видеть впереди хоть малую отдаленную цель! Точно спала она, и виделось ей во сне какое-то бесконечное, высокое, чистое счастье…
Когда она опомнилась, то заметила около себя высокого мужчину. Тот стоял, так же опершись на дерево, и так же упорно смотрел, но не в пространство, а на Юстину.
— Будь они прокляты, такая жизнь и такое счастье! — заговорил он возбужденным голосом и бросил шапку наземь. — Будь проклята судьба, которая человеку дает столько же, сколько скотам! Сей для того, чтобы быть сытым, стройся, чтобы было, где приклонить голову! И у скота есть такое же счастье! Если полюбишь кого-нибудь настоящей любовью, то любовь эта тебе не по росту; сделать что-нибудь для людей захочешь, для этого нет у тебя ни средств, ни уменья. На погибель только Господь дает крылья мелким букашкам!..
Он повернулся и прижался лбом к стволу дерева, весь дрожа от гнева, полный каких-то высших чувств и стремлений.
Юстине казалось, что она слышит отголосок своей души. Мысль, совершенно новая для нее, как молния промелькнула в ее голове. Она быстро прошла пространство, отделяющее ее от вершины горы, и остановилась там с сильно бьющимся сердцем. На желтеющие поля уже спустилась ночь, но с этого места можно было видеть внизу и серую ленту Немана, и противоположный берег.
В околице дневная жизнь мало-помалу стихала; кое-где в окнах мелькали огоньки, где-то неумелая рука извлекала из гармоники пискливые протяжные звуки; лошади весело ржали, возвращаясь с водопоя.
Юстина подняла глаза кверху; ей показалось, что где-то высоко-высоко проносится лучезарная тень женщины с золотистыми волосами, с арфой и маленькой прирученной серной. Тень плыла тихо, протянув руку по направлению к шляхетской околице. Благословляла ли она эту околицу или указывала кому-то путь?