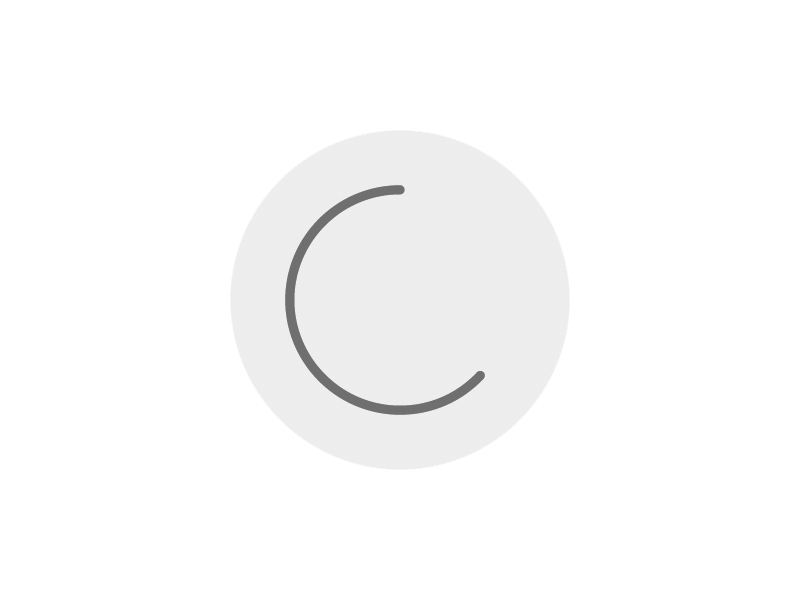Хорошо говорить по-польски я научилась в Париже
Беседа Каролины Зёло-Пужук с Натальей Горбаневской
— Давайте начнем с термина «диссидент»…
— Это очень простой вопрос. По-русски одно слово — «правозащитники», а по-английски, по-французски следует употребить три слова, чтобы назвать то же самое. Западные корреспонденты искали какое-нибудь определение покороче и нашли это слово «диссидент». Когда точно начали его употреблять, я не знаю, но это было тогда, когда я сидела. Я не люблю это слово, потому что оно значит «раскольники», а мы себя никакими раскольниками не считаем.
— И еще один термин, который мы часто употребляем: «инакомыслие».
— Вы знаете, с инакомыслием тоже довольно сложно. Мы всего лишь были людьми, мыслящими свободно, когда это было запрещено. Иногда это становилось преступлением, очень долго это было преступлением, наказуемым по-разному в разные времена: от расстрела до простого увольнения с работы.
— Третье очень распространенное название — отказник (refusenik).
— Нет, «отказники» — это были только те, кому отказали в выезде в Израиль.
В общем, слово «диссидент» никто не любит. Но на Западе приходится его постоянно употреблять, как Буковский, который все время пишет или выступает по-английски. Поэтому и в России все тоже начали говорить «диссиденты». Я продолжаю не любить это слово.
— Какая самая главная разница между словами «правозащитник» и «инакомыслящий»?
— В слове «правозащитник» — какая-то активность, не только «мыслие», но и действие. Это, как минимум, подпись под письмом, которая в наше время была действием. Вы знаете, за подпись в 1968 году массу людей уволили с работы и исключили из партии. Очень часто те, кого исключали из партии, были этому рады, потому что уйти самому — это одно дело, опасное, а тут исключили: ну, что поделать? Были люди, которые внутренне с партией уже расстались, но не решались уйти из нее.
У меня всегда было такое простое правило: я никого не уговаривала и никого не отговаривала подписывать. Когда человек говорил: «Я тоже подпишу», — хорошо, но если нет — ни в коем случае не надо его к этому склонять. Что касается каких-то других действий, например, эмиграции, то я тоже никого никогда не уговаривала и не отговаривала. Я всегда сама решала за себя и считаю, что каждый имеет право за себя решать.
— Как началось ваше сотрудничество с «Культурой»?
— «Культура» — это был почти мой дом, я туда ездила. Гедройц был самым мудрым человеком, которого я встретила в эмиграции, а в жизни — вторым после Ахматовой.
Мое сотрудничество с «Культурой» началось, конечно, с приезда в Париж. Но прежде я начала читать отдельные номера «Культуры», попадавшие ко мне, а еще слушала обзоры «Культуры» по «Свободной Европе». В Вильнюсе я впервые увидела номера «Культуры» и книгу, изданную ими, — «Кладбища» Хласко; когда я в следующий раз была в Вильнюсе, то выпросила эту книжку. Она долго жила у меня, я ее даже на магнитофон переводила, но потом началась эпоха арестов. Этот перевод на магнитных катушках переезжал из дома в дом и где-то безвозвратно пропал. Потом я перевела ее заново.
В 1972 году в Москву приехал один поляк, гражданин Голландии, пришел ко мне от Гедройца и принес 2‑й русский номер «Культуры» (первый, я, по-моему, увидела уже за границей). Не помню, до него или после, но кто-то еще привез мне тот же номер. Эти два экземпляра «Культуры» все время были на руках, я уезжала — они там остались, так что у них заведомо было несколько сот читателей, если не больше. Либо от него же, либо, пожалуй, от кого-то другого, раньше, я получила издание документов «Мартовские события». У меня был еще один номер «Культуры» со статьей Колаковского «О надежде и безнадежности», а потом уже я прочла перевод в этом 2‑м русском номере.
Я считала, что еду в Париж встретиться с Гедройцем. Но на самом деле в Париж я ехала в «Континент». Причем о планах Максимова насчет «Континента» я знала еще в России. Когда я уезжала, я с ним встретилась случайно у знакомых. Он был с каким-то иностранцем, кажется, немцем. Видимо, это уже был кто-то от Шпрингера, кто предлагал ему издавать журнал. И Максимов мне сказал: «Они предлагают издавать журнал, но я не хочу издавать еще один журнал русской эмиграции. Я хочу, чтобы это был орган всей восточноевропейской эмиграции».
К моменту моего приезда «Континент» существовал больше года (до отъезда я успела в Москве прочитать первые пять номеров). Я знала, что Гедройц, Чапский и Герлинг-Грудзинский входят в редколлегию, видела, что там много польских материалов. И знала, что уже есть сотрудничество «Континента» с «Культурой». Как известно из других источников, оно началось до того, как начал выходить «Континент». Солженицын сказал Максимову: «Идите в „Культуру“, они вас научат». И Максимов до самой смерти продолжал с ними дружить.
Мое же сотрудничество заключалось в следующем: во-первых, я стала искать в номерах «Культуры» или в книгах, изданных «Культурой», что-нибудь для публикации в «Континенте» по-русски, во-вторых, какие-то материалы Гедройц предлагал, а я их переводила. Кроме того, я часто участвовала в общих встречах. Хорошо говорить по-польски я научилась в Париже.
— Почему вы думаете, что это сотрудничество между «Культурой» и «Континентом» важно?
— Основная линия «Культуры» определялась — скажем условно — доктриной Гедройца—Мерoшевского: в будущем, когда Польша будет свободной, и Россия будет свободной, нужно, чтобы Украина, Литва и Белоруссия тоже были свободны. Когда они будут свободны и независимы, Польша с Россией потеряют главную причину своего конфликта. У них была мысль о независимых силах внутри Советского Союза, причем в первую очередь русских. Это было очень важно. Они находили любые проявления оппозиционности, начиная с того, что «Культура» первая напечатала Терца и Аржака. В 1961-м они выпустили сборник материалов — первый номер «Культуры» по-русски, в 1972 году — следующий, в 1981-м — третий, в работе над которым я уже принимала участие.
В 1969 году мои стихи в переводе Лободовского были напечатаны в «Культуре», так что я уже была автором «Культуры». Они напечатали много русских писателей. И вдруг появляется Максимов с идеей объединения, и это, я думаю, было очень близко «Культуре». Они сразу вошли в редколлегию, постоянно следили за тем, что печатается в «Континенте». Гедройц регулярно писал письма Максимову. Он очень хорошо понимал по-русски, но стеснялся говорить. По-моему, он одно письмо написал сам по-русски, иногда кто-то ему переводил в редакции, а иногда он писал по-польски (и тогда я Максимову переводила). Бывали и моменты конфликтов, но каждый раз все разъяснялось.
Не могу сказать, что я поехала в «Культуру» в первые же дни, потому что я приехала с двумя детьми, мне надо было устраиваться, получать документы, оформлять беженство, искать работу, квартиру. Мне предложили внештатную работу на радио «Свобода», чтобы я могла делать переводы. Я решила назвать свою программу «Восточноевропейские свидетельства». Вторую передачу я делала о «Культуре». И меня в первый раз цензурировали на радио «Свобода». Там была страшная цензура — американская. Они просто боялись испортить отношения с Советским Союзом. В «Культуре» был автор под псевдонимом «Брюсселец», который писал ежемесячные политические хроники. Это было начало 1976 года, он в связи с Хельсинкским соглашением перевел слова американского президента Форда, сказанные перед поездкой в Хельсинки в августе 1975 года. Президент Форд сказал, что США никогда не признавали и не признают аннексию Литвы, Латвии и Эстонии. Я это привела как двойную цитату (слова президента Форда из статьи в «Культуре»), и они меня — да не меня, а собственного президента! —цензурировали. Как говорят французы, бóльшие роялисты, чем сам король. Кстати, одной из первых статей, которые я переводила с польского (нам ее дал Гедройц), была статья Яна Новака-Езёранского, который ушел тогда со «Свободной Европы» и написал, почему он это сделал. До 1988 года я продолжала делать передачи на «Свободе», а в 1988‑м нас с Максимовым уволили «по экономическим причинам»: якобы по сокращению бюджета радиостанции. На самом деле — потом Максимов достал документы — у них бюджет не сократился, а увеличился. Если бы идти в суд, мы бы, конечно, выиграли, но мы не пошли. А уволили за «антиперестроечные» настроения.
— У вас были контакты с поляками, которые занимались независимыми издательствами в Польше в 1970—1980 годы?
— Все время. Во-первых, мой самый любимый, после покойного Виктора Ворошильского, польский друг — это Мирек Хоецкий (основатель первого крупного польского независимого издательства НОВА). Я с ним познакомилась, когда он в 1981 году привез сюда выставку, а тут объявили военное положение, и он остался. У меня была большая подборка стихов в «Пульсе» — это было до 1980 года. Разные люди приезжали — так я познакомилась и с Виктором Ворошильским, с которым мы были знакомы только заочно. Он был здесь в 1976 году, а потом его до времен «Солидарности» не выпускали за границу. Он был одним из редакторов «Записа». Мы получали очень много от «Культуры»: например, мы очень быстро получили первый номер «Информационного бюллетеня» КОРа. Я его перевела целиком, и он был напечатан в «Континенте» под заглавием «Первый выпуск польской „Хроники“».
Русские книги поляки привозили в Польшу из Парижа, из Германии. Все время люди возили из Парижа книги, хотя иногда их на польской границе отбирали. Это были и книги, изданные на Западе, и журналы. У Ворошильского, например, был полный комплект журнала «Континент», который он собирал (или привозил, или ему посылали). Я не принимала участия в переброске книг, это было другое дело. У Максимова всегда был запас номеров «Континента», он давал их людям, и они увозили. Поляки тоже приходили. Большинство поляков дружило со мной: я говорила по-польски, понимала их и переводила Максимову. Но вот, например, Анка Ковальская — поэтесса, которая по-русски вообще не говорила. Она здесь была в 1980 году, уже после создания «Солидарности». Побывала и в «Континенте». Я ее стихи перевела, мы ее напечатали. При военном положении ее интернировали, но потом, поскольку она была очень больна, ее выпустили в Париж сделать операцию. Она пришла в редакцию «Континента», села в кресло и сказала: «Я как дома». Когда я встретила, например, нынешнего посла Польши в Париже, он сказал: «Вы знаете, когда я был молодой, я был у вас в „Континенте“».
Бывая в «Культуре», я встречала многих поляков из Польши. Когда при военном положении в Париже был создан Комитет поддержки «Солидарности», они мне давали очень много подпольных изданий. Кстати, Яцек Кравчик, который был архивистом этого комитета, позже стал архивистом «Культуры». А его брат Марек Кравчик был в Варшаве очень крупным подпольным издателем. В какой-то момент, это был уже 1989 или 1990 год, после смерти Шпрингера, когда у «Континента» не стало денег, мы искали, как можно подешевле издавать журнал, и Марек печатал «Континент» в Варшаве. Правда, это уже были издательства, вышедшие из подполья. Когда мне надо было издать два сборника моих стихов, их издал Мирек Хоецкий у себя в «Контакте». Кстати, совсем недавно, в последний раз, когда мы виделись с Миреком, он напомнил мне, что название «Контакт» я придумала. А Мирек, поскольку его в Париже застало военное положение, многое начал делать. Чем только он не занимался (в смысле помощи подполью «Солидарности»). А, кроме того, стал издавать ежемесячный журнал «Контакт» — журнал новой, молодой эмиграции. У них были прекрасные отношения с «Культурой», но это был журнал немного другого типа.
В 1980 году мне даже Гедройц предложил… приближалось сорокалетие Катыни, и я делала большую серию передач, а потом печатала их в «Русской мысли». И Гедройц мне сказал: «А давайте мы эти ваши тексты напечатаем в „Зешитах хисторичных“». Я говорю: «Пан Ежи, я все пишу по польским материалам, все уже напечатано». Единственно, были у меня два интервью, которые я брала как раз по-русски (в статью вошло одно из них — со Станиславом Свяневичем, но там он тоже рассказывал то, что польские читатели знали из его книги «В тени Катыни»). Все было по польским материалам. У меня было впечатление, что Гедройц обиделся, но все это были почти одни цитаты или пересказы документов, неизвестных русскому читателю. На мой взгляд, все это было очень важно.
— Почему, по-вашему, книги русских писателей могли показаться интересными польскому читателю подпольных изданий?
— Потому что они вообще были интересны. Когда поляки получили изданную в Лондоне в потрясающем переводе Шимона Шехтера и Нины Карсов книгу «Москва — Петушки», известно, какое это произвело впечатление. В Польше потом эта книга много раз независимыми издательствами переиздавалась, пока это не кончилось тем, что ее заново перевел Анджей Дравич.
— Вы были знакомы с Анджеем Дравичем?
— Я с Анджеем познакомилась в 1963 году в Ленинграде. Он еще не был лысым, каким потом стал. Я тогда занималась распространением «Реквиема» и ему тоже дала «Реквием». Прошло несколько месяцев, я прихожу к Ахматовой, она мне показывает книжечку и говорит: «Ох, Наташа, не надо было давать „Реквием“ этому поляку. Но я, конечно, понимаю, такой красивый поляк…» Правда, Анджей потом, когда я его встретила в Париже, клялся, что он не передавал, а еще позже мне кто-то говорил, кто это на самом деле привез на Запад, — действительно из Польши. Впрочем, «Реквием» распространялся в таком количестве экземпляров, что невозможно было себе представить, чтобы он не попал на Запад. А в Польше в то время «Реквием», хотя и не совсем целиком, был напечатан в журнале «Твурчость» — до того, как он вышел на Западе. Я думаю, это было в переводе Северина Полляка. Может быть, он прямо от Ахматовой поэму получил — он с ней встречался. Но может быть, все это было в 1965-м, позже, чем русское издание. Дравич был очень интересным человеком, он невероятно много сделал для популяризации русской литературы в Польше. Но, скажем честно, как литературовед он был все-таки не более чем популяризатором. Каких-то новых глубоких идей у него нет. Как популяризатор он был невероятный, другого такого не было. Эту роль он выполнял прекрасно. Но он, как и многие другие люди в Польше, был совершенно очарован Горбачевым. Когда уже можно было более или менее свободно печатать, еще до 1989 года, он опубликовал свои статьи о том, что происходит в Советском Союзе в «Тыгоднике повшехном». И там он, на мой взгляд, популяризовал совершенно вредную точку зрения. Когда я потом с ним встретилась в 1990 году, я ничего ему об этом не стала говорить: мы старые друзья, ну что мы будем выяснять? Была еще такая история, очень сложная, когда большая группа писателей, артистов, художников, ученых и так далее написала письмо представителям советской интеллигенции насчет Катыни. Там очень мимолетно упоминалось (или даже совсем не упоминалось) о том, что есть люди в эмиграции, которые этим занимались раньше. У нас в «Континенте» было в 1980 году очень резкое заявление «Оглянись в раскаяньи», под которым мы собрали подписи русских и не только русских, а именно бывших советских эмигрантов. А это польское письмо было написано тогдашнему истеблишменту советской «либеральной интеллигенции». Я была просто в ужасе, как будто нас на свете не было. Мы нашли информацию об этом письме во французских газетах, я позвонила Виктору — Виктора не было, потом Дравичу. Он мне продиктовал письмо. Потом я позвонила Михнику, с которым мы еще не были в ссоре. Я ему сказала: «Как вам не стыдно». Он мне стал объяснять, что «так надо» (это как из песни Галича: Михник — всегда тот, «кто знает, как надо»). «Ты ничего не понимаешь, что происходит в Советском Союзе», — сказал он.
В 1976 году, когда я была только первый год в эмиграции, в Лондоне открывали памятник, символический, катынским жертвам. Советское посольство и посольство ПНР страшно протестовали, и стоял вопрос: будет ли на памятнике дата 1940 или вообще не будет никакой даты. Я была на открытии. На памятнке была надпись «Катынь 1940» — без уточнения, кто и что. Мы с Виктором возложили венок. Это было одно из первых действий по Катыни, предпринятых мною на Западе. Но я, конечно, еще в СССР этим интересовалась. Мой очень близкий друг Гарик Суперфин дал в «Хронику» материал по делу Катыни, и это вошло одним из пунктов в его приговор. Он дал в «Хронику» материал по делу Караванского, а Караванский — украинец-политзаключенный. Он в тюрьме встретился с Меньшагиным — бывшим (при немцах) бургомистром Смоленска, который с 1944 года сидел во Владимирской тюрьме. Караванский пытался узнать у Меньшагина про Катынь и за это получил новый срок, о чем Гарик и написал в «Хронику». Гарик виделся с Меньшагиным после его освобождения. Позже он подготовил книжку Меньшагина, и я участвовала в ее издании в Париже. Людей, которые интересовались Катынью, было много. Для того чтобы знать, кто совершил преступление, было достаточно прочитать заключение советской комиссии (т.н. комиссии Бурденко). Там настолько не сходились концы с концами, что было ясно, что они врут.
В 1976 году я встретилась с Михником в Париже, и мы подружились. Здесь проходил такой большой симпозиум, который назывался «1956—1976», его организовали в основном венгры и поляки, я там делала доклад о самиздате. И мы подружились. В апреле 1977 года он собрался возвращаться и спросил меня: «Ты мне посвятишь стихи, если меня арестуют?» Я сказала: «Первые, которые сочиню». И его действительно арестовали в аэропорту. Я сделала, как обещала. А потом он меня очень обидел. Из этого разговора насчет их катынского письма я поняла, что он тоже «чокнулся» на перестройке, как Дравич. Потом наступает май 1988 года, и все ждут приезда Горбачева в Варшаву. В массе западных газет появляются интервью Адама Михника, который говорит, что он возлагает большие надежды на приезд Горбачева в Польшу, и что сразу дела пойдут лучше. Я в своем еженедельном обзоре событий в «Русской мысли» процитировала это интервью, а обзор назвала строчкой из стихов Некрасова: «Вот приедет барин…».
В 1988 году, в августе, я приехала в Польшу на международную конференцию по правам человека в Кракове. Я прилетела в Варшаву за неделю до открытия конференции, а Буковский — очень занятый человек — решил приехать в последний момент, прямо в Краков. Когда он выходил из дома, чтобы ехать в аэропорт, он вынул из почтового ящика письмо из польского посольства с сообщением, что его виза аннулирована.
Люди читали «Русскую мысль» в Польше, более или менее ограниченный круг, но читали. Виктор (Ворошильский) прочел мой обзор о Михнике, очень расстроился и написал мне письмо. У нас с Виктором тоже были расхождения, но любить его я никогда не перестала. Что касается Адама, то я его увидела уже в свободной Польше. В 1990 году я приехала получать премию польского ПЕН-Клуба. В первый день я отправилась к Ворошильским, и Виктор сказал: «Я должен теперь поехать на радио, давай ты выступишь вместе со мной». У него брал интервью Лешек Шаруга, которого я тоже давно знала. А дальше Лешек говорит: «Я сейчас еду в „Выборчу“, поехали туда». И мы пошли в «Выборчу», но Адама там не было. После этого я пришла в четыре часа, и Скальский мне сказал в коридоре, что «начельный» (главный редактор) занят. Потом выходит Адам, прощается с бургомистром Вены, и я ему говорю по-польски: «Здравствуй, Адам, я хочу взять у тебя интервью». — «А я не дам тебе интервью, я не доверяю тебе как журналисту», — ответил он. Максимов, когда я ему это рассказала, спросил: «И никто из ваших польских друзей за вас не заступился?»
— Буковский говорил, что теперь отношения между польской и русской бывшей оппозицией очень сложные…
— К «круглому столу» я тоже отношусь очень скептически. Но в конце концов это дало толчок, с которого все началось.
— Возвращаясь к проблемам литературы. Может быть, русская литература была популярной, потому что в ней были затронуты проблемы, близкие польским читателям?..
— Вероятно, поскольку все мы жили в одном лагере. С другой стороны, когда я перевела «Чудесный притон» Орлося для «Континента», мне Татьяна Максимовна Литвинова сказала: «Ой, Наташка, я думала, что у них в Польше лучше». Вся остальная Польша, кроме двух городов, Варшавы и Кракова, была почти как Россия. Хотя, конечно, когда в 1981 году были бунты и забастовки из-за того, что в Польше снизили норму мяса, в то время как у нас в провинции мяса вообще не видели, мне это объяснять по радио русскому слушателю было очень трудно.
— Что для вас означает понятие «третья волна» эмиграции?
— Это понятие чисто хронологическое, с 70-х до конца 80-х годов. Это совершенно разные люди. В основном эта эмиграция происходила как эмиграция в Израиль, под этой маркой выезжали и правозащитники (кто сам ехал, кому угрожали, заставляли уехать). Бывало довольно смешно, когда кто-нибудь становился активным в надежде, что его легче выпустят в эмиграцию. Но это не всегда помогало. Кроме того, надо сказать, что Советский Союз с помощью эмиграции в Израиль заодно избавлялся от уголовного элемента, который не имел к нам никакого отношения.
Буковский в своей книге «Записки русского путешественника» писал о том, как мы находили союзников и как теряли союзников, кого мы находили у левых, а кого у правых, и кто был нашим противником. И там наша эмиграция тоже была совершенно разная… Люди, действительно связанные с правозащитным движением, — это как капля в море, сотни людей… Люди, уезжавшие, потому что им там была не жизнь в интеллектуальном и духовном смысле: таких были десятки тысяч, а уехали сотни тысяч….
— Спасибо за беседу.
— Спасибо.
29 ноября 2004