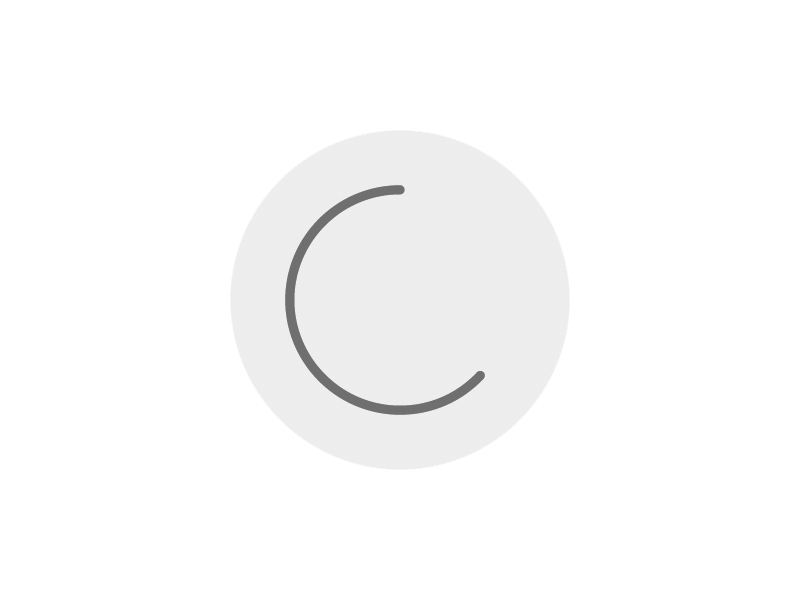Графиня Козель. Часть вторая, глава XIV
Выстрел, впрочем, был не так уж незаметен: его слышали многие и среди прочих Заклик, который вбежал в комнату Ко́зель первым и нашел ее без чувств. Дымившийся еще пистолет был возле нее. Заклик догадался, чтó произошло, и прежде всего спрятал оружие, а потом принялся вместе со сбежавшимися слугами приводить графиню в чувство.
Событие это, впрочем, не имело никаких особенных последствий, так как Август никому не упомянул об этом выстреле, и из его молчания все должны были понять, что разглашать это не следует.
Страшно потрясенная всем этим графиня опять мало-помалу оправилась и вернулась к своему прежнему образу жизни, не оставив и после этого надежды на побег.
Год спустя, получив от Заклика деньги за проданные бриллианты, она, не говоря ему ни слова, подкупила евреев, обещавших ее выручить, и с помощью веревочной лестницы уже совсем было спустилась с крепостных стен; но что-то роковое ее преследовало, и она опять была поймана и снова заточена в своей обители в башне, у которой только усилили караулы. Потом строгости опять мало-помалу ослабели: желающим было дозволено посещать арестантку, а самой ей выходить в садик.
Заклик продолжал жить тут же в городке и, по счастью, не вызывал никаких подозрений, так как не был замешан и в последней попытке графини к побегу. Ко́зель давала ему поручения, но не хотела ничем его компрометировать.
На характер короля покушение Ко́зель также не оказало влияния: он в следующем году великолепно принимал у себя в Дрездене Фридриха Вильгельма прусского вместе с сыном его Фридрихом, впоследствии Великим. Пребывание высоких гостей в Дрездене продолжалось четыре недели и утомило спартанца-короля до того, что он писал оттуда, жалуясь на усталость. Комедия, балет, осмотр музеев, скачки, карусели, метание дротиков — все это шло одно за другим. Забавам не помешал даже случившийся в Зекаузе пожар, при котором гости едва успели выскочить. Король на этих празднествах нередко появлялся в национальном польском платье, богато расшитом золотом, с белыми и голубыми перьями.
Ко́зель, слыша обо всех этих забавах, только вспоминала свои прежние времена и понимала, что она не нужна и король о ней забыл.
Ожельская кружила голову даже Фридриху, который ею так сильно заинтересовался, что возбудил в Августе ревность, и они с тех пор тайно враждовали. Фридрих писал о нем Зекендорфу:
«Король польский из всех монархов самый фальшивый и возбуждает во мне наибольшее отвращение. У него нет ни чести, ни веры; обман и ложь — это и его право, и его стихия. Он, кажется, не знает ничего более приятного, как перессорить людей и обмануть их. Меня ему тоже однажды удалось обмануть, но более уже не удастся.
Я в Дрездене прыгаю, танцую и измучен более, чем если бы ежедневно затравливал по два оленя, и вообще живу не по-христиански; но Бог мне свидетель, что во всем этом не нахожу никакого удовольствия и возвращусь домой так же чист, как уехал оттуда».
Увеселениям, терзавшим Фридриха, в самом деле не было конца, и когда гости от них окончательно устали, их еще попотчевали великолепным военным лагерем под Мюльбергом на Эльбе, который с неописуемым восторгом воспевали некоторые современные поэты.
Место для этого лагеря было выбрано на пологом скате и очищено от леса, который тут рос и был, собственно, для этого вырублен; оно занимало три мили в окружности и представляло бесценные удобства для военного стана.
Двадцать тысяч пехоты и десять тысяч польской и саксонской кавалерий расположились здесь, как на ладони. Войска были заново обмундированы и обучены по самому новейшему образцу. Особенно хороши были кавалергарды и конные мушкетеры, а из пехоты — янычары и батальон гренадер Рутовского.
Август имел свою главную квартиру в деревянном, наскоро выстроенном огромном двухэтажном здании, внутренность которого была обита полотном и расписана специально выписанными из Италии декораторами. На эти военные празднества собралось множество своих и иностранцев; среди последних было пятнадцать послов, шестьдесят девять графов и тридцать восемь баронов. Именитые гости прибыли издалека, так, из Франции приехал маршал де Сакс. Конечно, и здесь более слушали музыку, танцевали и жгли фейерверки, чем занимались войском. Не прерывались здесь и чудеса Августовой изобретательности, например, на одном из здешних лагерных пиров был подан знаменитый в своем роде чудовищный пирог, имевший шестнадцать локтей в длину и шесть в ширину. На то, чтобы изготовить этого гиганта, пошло семнадцать четвериков муки, и подали его к столу не на руках, а подвезли на особо устроенных дрогах, запряженных восьмериком лошадей.
Все эти затеи изобретательного Августа воспевал его придворный поэт Кёниг, а Фридрих над ними втихомолку зло посмеивался.
Слухи об этих пирах доходили и до Ко́зель и все более и более убеждали ее, что она забыта, и нет у нее никакой надежды на освобождение монаршей волей. Она опять решилась бежать, но на этот раз при содействии Заклика. Он только этого и ждал.
После стольких лет жизни в Штольпене ему были отлично знакомы и местность, и люди, и порядки, и он после каждой неудачной попытки графини к побегу прикидывал все обстоятельства и обдумывал, как устроить все опять, чтобы это не повлекло за собой неудачу. Но он не решался сам вызывать графиню на новую опасную попытку, а предпочитал ждать ее слова. Она все еще медлила, пока одно, по-видимому, малозначительное обстоятельство вдруг быстро не изменило ее решения.
Случилось, что торговые евреи, заехав к ней с разными товарами, привезли графине и несколько номеров гамбургской газеты, где было подробное описание последних увеселений во время пребывания прусского короля в Дрездене. Читая между прочим о каруселях, которые впервые были выдуманы Августом для Анны Ко́зель, она так вознегодовала, что скомкала газету и при первой же встрече с Закликом спросила, может ли она бежать из замка.
В воротах замка караул был нестрог, в замок впускали и выпускали из него всех, особенно мужчин: к графине и к коменданту ходили торговцы и знакомые, и стража к этому привыкла и почти не обращала на проходящих никакого внимания. Заклик думал, что в один из пасмурных или, еще лучше, совсем дождливых дней, когда мужчины надевают плащи, Ко́зель, покрывшись военным плащом и нахлобучив пониже фуражку, смело могла бы выйти никем не узнанной за ворота замка; а он будет за ней следовать и, выпроводив ее за зверинец, где должны были стоять верховые лошади, посадит ее в седло, и они ускачут лесом в горы, скроются за границу Саксонии.
Как Заклик ни раздумывал, он ничего лучше не мог выдумать и потому сообщил свой план графине. Той это чрезвычайно понравилось, и она решила, что в первый же дождливый день они должны уйти.
— Я надеюсь, что это будет последний раз, и готова защищаться. Лучше умереть, чем снова сюда вернуться! Надеюсь, что и ты также не дашь взять себя голыми руками. Прошу тебя вооружиться.
— Я надеюсь, что до этого дело не дойдет! — отвечал Заклик.
Итак, для этой последней попытки недоставало только ненастья; а дни, как назло, стояли ясные и погожие. Заклик употребил это время на то, чтобы еще более приучить стражу к частым входам и выходам. Он приходил к графине ежедневно и, выходя от нее, неохотно отвечал на оклики часовых, если которому приходило в голову его окликнуть. Он также продал в эти дни за бесценок свою усадьбишку и обратил в деньги все, что только было возможно.
Наконец однажды в четверг небо с утра начало заволакивать тучами, и в воздухе запахло дождем. Казалось, что ненастная погода непременно пойдет на несколько дней. Заклик сейчас же взялся за дело: одетый в свой плащ, он нарочно то приходил в замок, то выходил оттуда, и когда к утру пятницы бродившие с вечера тучи разразились проливным дождем, он сказал Ко́зель, что настал их час и что теперь медлить не для чего.
Графиня, отпустив прислугу, покрылась принесенным ей Закликом плащом и пошла к воротам. На нее никто не обратил никакого внимания, и она прошла эти ворота благополучно. В других воротах солдат стал было приглядываться к ней внимательнее, но тоже пропустил ее, не сказав ни слова. Так она и вышла благодаря этому плану на свободу; но неумолимый рок не переставал ее преследовать.
Когда вслед за ней в таком же плаще показался Заклик, часовой заворчал на него:
— Да сколько вас тут ходит! Сейчас только один прошел, а тут уж и другой!
Заклик открыл лицо и сказал:
— Что же, ты меня не знаешь, что ли?
— А, черт признает вас тут всех, столько вас шляется! — отозвался солдат. — Что это такое, в самом деле? Сам считал, что вошел всего один, а теперь выходит уже второй.
— Тебе, верно, это приснилось.
— Нет, я не спал, и мне это не приснилось, а ты постой-ка, не уходи, а вернись к коменданту!
— Да меня же все здесь знают! — настаивал, смеясь, Заклик.
— Ну, знают или не знают, а ты иди к коменданту, иначе не выпущу!
Пока они спорили и шумели, прибежал унтер-офицер, который по жалобе Заклика и велел его выпустить; но потом, на гóре беглецов, спросил солдата, что возбудило в нем подозрение насчет этого столь знакомого в замке человека.
— Да то, что, стоя на часах, надо считать, сколько людей входит в ворота и сколько выходит.
— Ну, что же далее?
— А далее то, что сегодня в таком плаще вошел один, а вышли двое.
— Ты в этом уверен?
— Конечно, уверен, да еще теперь припоминаю, что тот первый имел такую подозрительную походку.
— Какую же это подозрительную?
— Ну, не военную, а шел, как баба.
— Что ты врешь?
— Право, так, я даже подумал, не Ко́зель ли это сыграла со мной такую штуку?
— Сохрани Господи! — сказал унтер-офицер и, начав разделять опасения часового, пошел к башне.
Здесь от чернорабочего на кухне он узнал, что всем женщинам графини дано было дозволение отправиться в город. Это его еще более встревожило, и он, уже не помня себя, вбежал на второй этаж и увидел, что комната Ко́зель пуста, на третьем этаже — также никого. Искать арестантку в саду во время такого сильного дождя было бы, конечно, напрасно, и унтер-офицер сломя голову побежал к коменданту. Тот сию же минуту послал солдат искать графиню сначала около башни и во всех закоулках замка, но все поиски были напрасны, и становилось ясно, что арестантка бежала. Тогда в замке ударили тревогу, и комендант с солдатами, разделив их на несколько отрядов, отправились на поиски по окрестностям.
Между тем Ко́зель имела вполне достаточно времени, чтобы дойти до укрытых в лесу лошадей, но, по несчастью, в поспешности отклонилась от своего пути и заблудилась… Ускользнувший во время сумятицы Заклик обошел графиню и ждал ее при конях в мучительной тревоге; время уходило, уже был слышен шум погони, а Ко́зель все еще не было. В отчаяньи он сам бросился искать ее то в ту, то в другую сторону, не смея, однако, окликнуть ее, чтобы не открыть солдатам своей засады; но вот он ее наконец нашел, помог ей вскочить в седло и сам хватался уже за поводья своего коня, как в эту самую минуту они были окружены солдатами. Заклик не захотел сдаться и, стараясь дать графине время ускакать, дрался свирепо и упал с простреленной головой; но графине и это не помогло: прежде чем ее лошадь успела поднять карьер, один из солдат уже схватился за ее удила. Графиня вынула пистолет и выстрелила ему в голову; но на место одного подоспели другие, и сопротивляться было невозможно.
Комендант, явившись на место схватки, нашел уже графиню под стражей, а при ней два трупа и одного раненого, который умирал в муках.
— Довольно ли с вас этого, госпожа графиня? — воскликнул комендант. — Считайте, сколько человеческих жизней стоят ваши напрасные попытки бежать!
Ко́зель ничего не ответила, а, быстро подойдя к мертвому Заклику, поцеловала его в окровавленный лоб и сняла у него с груди известную нам бумагу, на которой покойный инстинктивно скрестил руки в минуту смерти.
Графиню отвели опять в замок, откуда сама судьба, кажется, не хотела ее выпускать. Ко́зель дала деньги, чтобы устроить Заклику похороны, и сказала:
— Для меня и этого никто не сделает!
В это время Ко́зель было сорок девять лет; но, как многие свидетельствуют, она была хороша и в эти, уже столь поздние для женщины годы.
С этих пор она не стала выходить даже в свой садик, а окружила себя книгами; читала без устали; изучала каббалу и заказывала переводить для себя еврейские религиозные книги — так убивала время, не будучи в силах убить саму себя…
Это совпало с последними годами царствования Августа II. Когда он, подражая Людовику XIV, пресытился удовольствиями, то заменил пышность двора страстью к постройкам.
В Дрездене, где тогда было еще много некрасивых деревянных домов, приказано было ломать их и строить вместо них каменные. Постройка шла за постройкой: на старом рынке было возведено хорошее здание ратуши; Флемминг, Фицтум, Вакербарт и Сулковский были вынуждены выстроить себе по дворцу. У Флемминга король сам купил его японский дворец, который прежде назывался голландским. В городе разбивали сады, строили казармы, проектировали монументы. Красовался уже тогда и Цвингер, прелестная в своем роде игрушка, но он тогда был еще только надворным строением к проектируемому новому дворцу. Прекрасные померанцевые деревья, которые теперь украшают летом Цвингер, были привезены сюда в 1731 году как корабельный балласт и предназначались для токарных поделок. Их было четыреста штук, но когда деревья привезли в Дрезден, здесь вздумали их посадить в землю, и большая часть принялась.
В окрестностях Дрездена построены были замки Морицбург, Губертсбург, летние дачи в Пильнице и т.п.
Король, очевидно, состарился, хотя и бодрился, желая казаться молодым и свежим. Его силы и здоровье подорвались. Еще в 1697 году, гарцуя на коне перед княжной Любомирской, он упал, опасно повредил себе ногу, но не слушал врачей, которые советовали ему беречься. Это кончилось тем, что в 1727 году ему должны были отрезать на ноге палец, на котором образовалась гангрена. Хирург Вейс, производивший эту операцию чуть не под страхом смерти, был счастлив, что она удалась как нельзя лучше; однако с тех пор Август уже не мог ходить так хорошо, как прежде, и часто садился перед дамами.
В последний год он еще раз провел в Лейпциге свою любимую новогоднюю ярмарку и затем торжественно открыл карнавал в Дрездене; а так как в скором времени должен был состояться сейм, то 16 января он отправился в Варшаву. Но это была его последняя поездка.
Зимняя дорога и новый ушиб ноги, полученный Августом при выходе из экипажа, снова вызвали гангрену, от которой его через три дня и не стало. Впрочем, и то удивительно, как он при своей бесшабашной жизни мог прожить до шестидесяти трех лет!
Когда весть о смерти Августа II дошла из Варшавы в Саксонию, тогдашний комендант Столпянской крепости сказал о новом государе графине Ко́зель.
Она выслушала эту весть стоя, долго стояла в безмолвии, а потом, всплеснув руками, упала, рыдая, наземь.
Заточение, жестокость и все другие испытанные ею несправедливости и унижения, как видно, не могли вытеснить из ее сердца страстной и глубокой любви, которую она питала к этому человеку, и когда его не стало более на земле, все злое ему было забыто, и с этой поры он снова был для нее только ее несравненным, ее возлюбленным Августом, которого она могла оплакивать со всей нежностью.
Через несколько дней в замок прибыл из Дрездена некто Геннике и приказал доложить графине, что он прислан к ней от нового курфюрста. Она, по обыкновению, сидела за своими книгами, но, услышав о приезде Геннике, приказала его просить.
— Ваше сиятельство, — сказал посланец, — я прибыл к вам по приказанию моего всемилостивейшего государя с тем, чтобы объявить вам, что вы свободны; вы можете хоть сию же минуту оставить этот замок и жить, где вам будет угодно.
Ко́зель посмотрела на привезшего ей эту новость, потом потерла рукой лоб и проговорила:
— Я свободна? Вы, кажется, это мне сказали. Я свободна оставить Столпянский замок хоть сию же минуту…
— Точно так, графиня.
— И могу жить, где я захочу?
— Где вам угодно.
Она покачала головой и, грустно улыбнувшись, начала как бы сама с собою:
— Свобода, свобода! Для чего ты мне теперь, когда весь мир мне чужд, и я ему чужая? Куда я пойду? Где стану жить? Где мне угодно… Но мне, господин офицер, нигде не угодно жить.
Геннике молчал.
— Да, — повторила она, — эта свобода, этот дар нового государя, который вы привезли печальной арестантке, немножко запоздал и теперь ни на что мне не нужен. Свобода, то есть жизнь между людей, теперь для меня была бы не благополучием, а несносным бременем. Мне здесь лучше; я уже сроднилась с этими стенами; в них я прострадала в унижении и неволе долгие годы; в них я выплакала все мои слезы; в них успела отвыкнуть от самой свободы и не хочу с ними расстаться; не хочу жить нигде в другом месте! Возвратитесь, молодой человек, к вашему всемилостивейшему королю и передайте ему, что вы от меня слышали.
Геннике поклонился.
— Да, — продолжала Ко́зель, — доложите его величеству, что я шлю ему мой привет; желаю ему благополучно царствовать, к славе своей и на благо народу; а для себя прошу у него одной милости: дозволить мне остаться здесь, в этом замке, где я провела многие годы и хочу здесь же умереть.
Геннике отвечал, что он в точности доложит обо всем этом государю, и с тем откланялся и уехал.
Легко догадаться, что желание графини было удовлетворено, и она осталась жить в замке. Ей тогда, в 1733 году, исполнилось уже пятьдесят три года, и она не надеялась жить долго, но высшей волей было решено иначе.
Оставаясь обитательницей, но не арестанткой Столпянского замка, Ко́зель устроилась в башне очень удобно и по-прежнему неустанно занималась чтением. Вниманием ее преимущественно пользовались еврейские религиозные книги и вообще литература Востока и каббалистика. Она постоянно окружала себя евреями и через них доставала все, что ей было нужно. Пенсии в три тысячи талеров, которую она получала, ей было довольно и на жизнь, и на покупку книг, а также на выкуп нескромных медалей, которые после одного спора с ней приказал выбить Август II. Кроме этих нескромных медалей, она скупала также редкие талеры, на которых королевский герб был соединен с ее гербом. Это было сделано по ее просьбе еще тогда, когда она думала, что имеет права второй жены Августа. Талеры эти, впрочем, были выпущены в самом незначительном количестве. После смерти Ко́зель несколько десятков штук этих монет нашли в ее кресле.
В тюрьме и на свободе Ко́зель сохраняла свою гордость и не изменила ей и теперь: всем местным чиновникам, духовным лицам, точно так же, как и простолюдинам, она говорила «ты», и лицам, посещавшим Штольпен, приказывала объявлять свое благоволение. После семнадцатилетнего заточения при жизни Августа II она прожила здесь все время царствования Августа III и Брюля, обе силезские войны и всю семилетнюю войну, первый выстрел которой раздался под стенами этого замка.
Прусский генерал Вернер, подступив к этой защищенной несколькими инвалидами крепости, овладел ею.
Фридрих Великий во время войны аккуратно выплачивал графине Ко́зель назначенную ей пенсию, но только той дрянной монетой, которую тогда называли «ефраимитами». Ко́зель прибивала эти легковесные талеры гвоздиками к стенам.