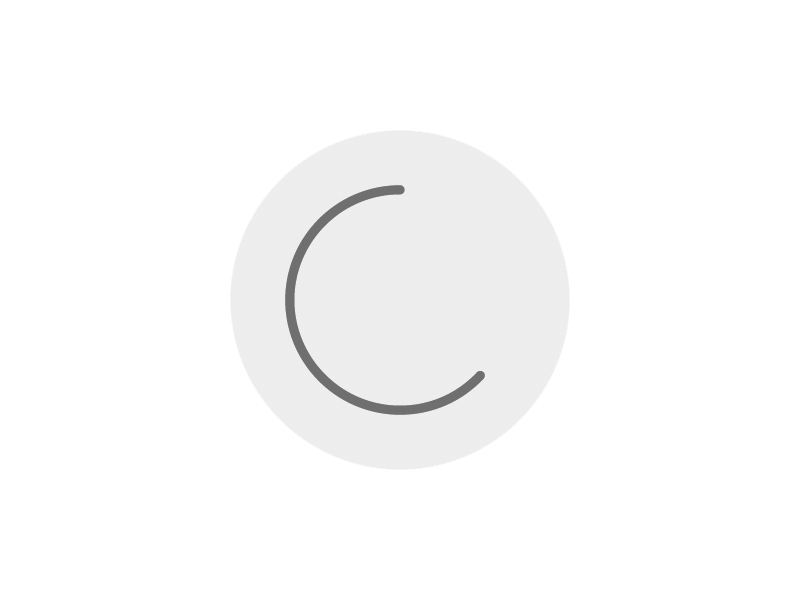Графиня Козель. Часть вторая, глава V
Берлин в первой четверти XVIII столетия был, конечно, совсем не то, что нынешний Берлин, хотя он и тогда имел уже все задатки образовать казарменную столицу. В самом расположении города и в характере вновь возводимых зданий преобладали единообразие и ранжир, не оставлявшие никакого места вкусу и фантазии. Систематическое правительственное опекунство чувствовалось во всем: все было под наблюдением и велось по установленной форме.
После относительно небольшого, но изящного Дрездена Берлин должен был показаться Ко́зель очень скучным, тем более что у нее был целый ад в душе. На улицах видны были почти одни солдаты, рожки и барабаны которых нестерпимо надоедали. Несмотря на то, что Берлин насчитывал уже пять кварталов, везде казалось очень безлюдно. Из знаменитых впоследствии зданий тогда в Шпандаузском предместье уединенно стоял дворец королевы, а в Стралаузском — бельведер короля. Все здесь было ново и, сдавалось, еще ждало притока людей и начала жизни: на широких площадях, напоминающих целые степи, скучали кое-где расставленные статуи, но на Шпрее был уже каменный мост, который назывался «новым мостом».
Королевский дворец еще строился и мог бы быть очень хорошим зданием, если бы Шлухтер имел чувство меры и не увешал его венцами до такой степени, что они закрыли все стены.
Берлин имел уже тогда театр, картинную галерею, библиотеку, музей. Правда, все это было устроено наскоро, без особенно тяжелых пожертвований; по крайней мере, здесь не жертвовали людьми за вещи, как водилось в Дрездене, где меняли солдат на фарфоровую посуду и безделушки.
Но что было самого замечательного в Берлине, это, конечно, солдаты — их рост, их обмундирование, выправка и дисциплина. Вот чем мог вволю налюбоваться всякий, кто был одарен способностью на это любоваться.
Здесь был жив тогда тот знаменитый батальон гренадер, собранный с особенными усилиями из самых высоких людей целого света. Этих великанов скупали повсюду, где могли, и платили за них очень большие, по-тогдашнему, деньги; сводили их сюда, муштровали и вообще обращали в подвижные военные машины. Это были здесь люди пришлые, чужие, не имевшие никаких живых связей со страною, в которую попали против своей воли. Между этими великанами самым колоссальным ростом отличался норвежец Ионаш, который был так велик, что даже сгорбился, и его таким и привезли в Берлин; но чтобы заплаченные за него деньги не пропали, здесь его как-то распрямили и сделали тем «идеалом солдата», каким потом слыл этот бедный малый.
Вообще Берлин, после Дрездена, не мог нравиться такой женщине, какой была Ко́зель; но ей нужны были не удовольствия, а покой, личная неприкосновенность, и это казарменный Берлин, кажется, мог дать ей. Правда, что на третий день после того, как она расположилась в нанятом для себя помещении, ее посетили губернатор Вартеслебен и начальник жандармов Натцмер; но они были очень любезны и появились как бы только для формы. На переезд сюда графини смотрели, кажется, очень благосклонно, особенно с тех пор, как стало известно, что дрезденский Леман перевел для нее в один берлинский дом весьма значительные суммы.
Тесные отношения трех Фридрихов, казалось бы, не должны были ее касаться, и Ко́зель была уверена, что здесь ее уже никто не тронет, и она старалась жить как можно тише, никого не беспокоя и отмечая прожитые дни одними тупыми муками тоски начавшегося для нее тягостнейшего бесцельного существования Эмигрантки.
Она изверилась в Августе. Оглядываясь на свое прошлое, она отыскивала в нем собственную вину и взялась за то, за что берутся многие в подобном положении: стала читать Библию… Священное Писание призывалось произвести примирение в смятенной душе и уврачевать язвы борющихся ее страстей; но храмина была не убрана и не постлана для доброго гостя, и ему нельзя было сотворить себе в ней обители. К тому же и со стороны Анну не оставляли в покое: то Заклик извещал ее, что около дома бродят какие-то подозрительные люди, то о ней осведомлялись прусские власти, то наконец навещали ее будто бы случайно заезжавшие сюда саксонцы.
Так, например, к ней совершенно неожиданно пожаловал Ван Тинен, которого графиня знала; это был тот самый человек, который незадолго перед этим брался объясняться Анне в своей страстной любви.
Ван Тинен, однако, был принят и, притворяясь, что он будто бы совсем не знал о переезде графини в Берлин, сообщил ей дрезденские новости вечно одного и того же характера: Флемминг недавно давал сельский пир на равнине под Лаубегастом, причем в поле напротив Пильницы было выведено шесть полков королевской лейб-гвардии. На высотах были поставлены пушки и расположены другие войска и были произведены маневры. Разделенные на два отряда полки наступали друг на друга с батальным огнем, и все имело вид настоящего сражения. Король любовался на это зрелище, имея при себе, с одной стороны, госпожу Денгоф, а с другой, ее сестру, гетманшу Поцей.
Ко́зель усмехнулась и спросила:
— Почему же обе… без всякого предпочтения одной против другой, разве это уже так стало?
Ван Тинен улыбнулся и, понизив голос, отвечал:
— Да, эти дамы одна другую не ревнуют!
— Что же, это, должно быть, нравится вашему августейшему повелителю.
— Вероятно.
— В самом деле, это очень удобно, хотя, может быть, немножко более по-султански, чем по-королевски, но не беда!
— Не беда, — отвечал, уклоняясь от длинных об этом рассуждений, Ван Тинен и перешел к продолжению рассказа о том, как на этом полусельском-полувоенном празднестве король и его придворные до того перепились, что Флемминг забыл всякий этикет и начал бросаться королю на шею и фамильярно называть его своим другом и братом, а в заключении угрожал ему лишить его этой дружбы, если Август оставит попойку. Денгоф хотела отвести его от короля, но пьяный Флемминг вдруг перенес свои нежности на нее. Словом, венценосный гость и его фаворитка должны были спасаться от своего слишком хлебосольного хозяина и насилу ускакали верхом; тогда разгулявшийся Флемминг дошел уже до того, что брал оставшихся служанок и кружился с ними, производя всякие безобразия.
— Все это старые истории! — отозвалась Анна. — Флеммингу не впервые так обращаться с Августом; король сам мне рассказывал, что Флемминг, сделав подобное в пьяном виде, обыкновенно приходил наутро в замок и говорил королю: «Я слышал, ваше величество, что Флемминг вчера был не совсем в порядке, но вы ему это простили», — и все этим кончалось.
— Король Август добр и кроток, как барашек, с теми, кто ему нужен, — продолжала она с саркастическим смехом. — После, когда минет надобность, пройдет и его доброта. Так это бывало со всеми и так кончится и с Флеммингом. Но все это для меня теперь дело стороннее, и вы будете очень любезны, дорогой гость, если перестанете меня тешить этими новостями, увы, слишком хорошо мне известного сорта и прямо мне скажете: зачем вы ко мне приехали? Говорите прямо, потому что я ведь не дитя и меня нельзя обмануть тем, будто вы заехали сюда случайно.
— Графиня! — возразил, едва скрывая смущение, Ван Тинен.
— Не спорьте со мною, пожалуйста, я на вас за это вовсе не сержусь, вы служите и стараетесь выслужиться — ну, что тут толковать! Но дело вот в чем: от меня ровно ничего нельзя узнать, я все стараюсь забыть и живу вот так, как видите. Это вы и можете рассказать, кому это интересно, а хотите еще что-нибудь добавить, то добавьте… Вот что, — проговорила она, поднимаясь с места, — добавьте, что при всех моих усилиях забыть мою жестокую обиду я до сих пор еще не нашла средства совладеть с собою, и месть, ненасытная, алчная месть кипит в груди моей и будет кипеть… пока живу я, или он!..
Ван Тинен побледнел и воскликнул:
— Графиня! Вы так немилосердны, что ставите меня, честного человека, в необходимость делать доносы. Вы ведь знаете, что я служу королю Августу, что я камергер его двора и присягал ему в верности….
— Исполните же долг вашей службы и донесите на меня, — резко отвечала Ко́зель. — Я прошу вас об этом.
— Но это вас окончательно погубит!
— Не беспокойтесь об этом, мне уже никто на свете не страшен, потому что никто уже не может мне сделать ничего хуже того, что сделано.
— А, может быть, вы ошибаетесь, графиня!
— Нет, не ошибаюсь. Вы, может быть, думаете, что я сожалею об утрате дворцов, влияния и прочего… Нет, Ван Тинен, все это в моих глазах ничего не стоит, но я оскорблена как женщина в самых глубоких чувствах моего сердца, у меня отняты дети, отнято право доказать, что я не торговала собою и любила этого человека… Что же еще вы можете у меня отнять? Скажите, я вас слушаю…
Ван Тинен смотрел на нее с живейшим сочувствием и ничего ей не отвечал.
— Что же, — продолжала она, — договаривайте, чего еще могу я бояться?
— Уезжайте отсюда!.. Более этого я ничего не могу вам сказать, — отвечал Ван Тинен, чувствуя, что говорит то, о чем ему отнюдь не следовало бы говорить.
— Как? — спросила Ко́зель. — Уехать из Берлина? Зачем это? Разве я и здесь еще не в безопасности? Нет, я здесь под покровительством прусских законов; а король Фридрих не выдает так людей, как Август выдал Паткуля.
— Я более ничего не скажу, — тихо уронил Ван Тинен и взялся за шляпу.
— Прощайте! — отвечала ему равнодушно Ко́зель.
— Прошу вас верить одному, что мне глубоко и искренно жаль вас, — проговорил, откланиваясь, Ван Тинен.
— Хорошо, я готова этому верить, — отвечала, сухо поклонившись ему, Ко́зель, и с этим они расстались.