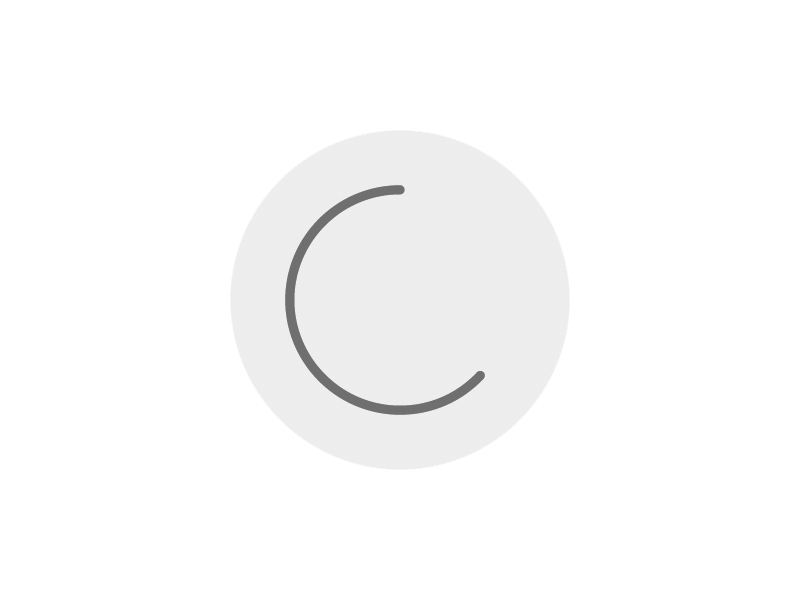Фетишист безобразности
Было быстро и точно отмечено, что поэзия Гроховяка напоминает те экзотические блюда, что готовятся из несовместимых и самых невероятных ингредиентов: повар — то есть Гроховяк — нарубил большими кусками барокко, нашинковал декадентство, порезал ломтиками экспрессионизм, заправил Норвидом, Либертом
Получается, что те критики, которые быстро разобрались с элементами лирики Гроховяка — прежде всего Выка, Квятковский, — определенно были правы: да, это синкретичный поэт. Абсолютно твердой рукой он деформирует и трансформирует материал, бесцеремонно прихваченный у коллег по перу. Вот только и материал, и работа оказываются оригинальными: авторским почерком может стать и способ заимствования. Поскольку никто — в случае Гроховяка — оригинальности не отрицает (и менее всех вышеупомянутые критики), лучше не множить число отцов и дедов поэта: меньше заниматься стилем, больше — внутренней диалектикой его творчества.
Легче всего будет начать с женщины — а точнее, с любви. Просто потому, что Гроховяк — наиболее эротичный поэт во всей молодой лирике! Мало у кого встречается такой жар страсти, иными словами, уверенность в том, что ключ жизни — в любви, что ничего более важного в личной судьбе нет и не будет. Уже эта навязчивость свидетельствует о подавлении, трудностях и страхах детского или юношеского эротического опыта (я еще вернусь к этим неясным вопросам)... Но такая «количественная» компенсация никому не интересна, это только Зегадлович
В наготе синевата Лица лишена
Мне все грезится женщина в красных чулках
И перчатках белеющих где-то на фоне
(«На нотах», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня)
«Лица лишена» — потому что у женщин в этой лирике и в самом деле нет лица, разве лишь то, которое навязывает им либидо возлюбленного. Так чего же этот возлюбленный жаждет? Красные чулки и белые перчатки напоминают об одной проблеме: как соотносятся женщина и мир? В принципе, существует два варианта эротической образности: первый — тот, что отождествляет женщину с гармонией природы. Тогда женщина является мифической посредницей между поэтом и жизнью: это она примиряет мужчину с природой, становясь посланницей неизбежного порядка, проявляющегося и в образе любви. Второй же подчеркивает искусственность, неестественность такого явления, как женщина: обособляя тело через соседство специфических предметов, она делает его необычным и контрастирует с миропорядком; тогда женщина вносит не гармонию, а хаос, любовь — это катастрофа, она противозаконна; она никоим образом не умиротворяет, но «разлагает» действительность. Это (и многое другое) можно проследить, следуя путями поэтических ассоциаций. Каковы у Гроховяка взаимоотношения женщины и предмета? Они амбивалентны. Мир предметов — в сравнении с человеком — временами «чист и благороден» («Шекспир»); однако в ином случае (в стихотворениях «И он счастлив» или «Грудь королевы точёная из липы») все, что поэту отвратительно, ассоциируется у него с холодом мертвого предмета: Гроховяк в определенном смысле занимает сторону природы. Так что иногда — реже — любовь «натуральна», природа призывает любовь, и наоборот; однако чаще Гроховяк отмечает искусственность, извращенность, причудливость любовной магии:
Эта черная женщина — узкая — на каблуках до неба
<...>
Когда тихо лежит с отклеенными ресницами
<...>
Пусть в коротенькой нижней юбке
С хлопковой кожей на правой груди
<...>
Хочу взять тебя голой, в темном пейзаже
Густым от бронзы подсвечников ваз
(«Муза», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня)
Я обратился к четырем стихотворениям («Целование», «Интродукция», «Муза», «Когда уже ничего не останется») — можно процитировать и больше; почти все... Любовь у Гроховяка — это какофония в природе; среди эротического реквизита он выбирает то, что создано человеком; обращает внимание на наряд, косметику, интерьер комнаты любовников. Уже это наводит на мысль о фетишизме безобразности, поскольку — в соответствии с традиционными понятиями — прекрасно то, что естественно. Но этот реквизит безобразен в буквальном смысле, и в каждом втором эротическом стихотворении говорится о тройных комплектах белья, грязи и ободранных кастрюлях. В общем, любовь очаровывает не вопреки своему безобразию, а именно потому, что отвратительна, и потому, что рефлекторно ассоциируется с гниением, распадом, смертью... У нее могильный вкус. Я должен понятнее объяснить, о чем идет речь, ведь любовь много раз отождествлялась со смертью, начиная со средневековой демонологии и заканчивая чрезвычайно мудрым высказыванием Гегеля, что «рождение детей — это смерть родителей». Конечно, у Гроховяка встречаются разные подходы к этому:
Голой нашел тебя павшей в траву я
С синюшным пятном на виске чуть видным
Подумал «злодейской пулей убита»
А это был грешный след поцелуя
(«Акт в пейзаже», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня)
Женщина здесь — грех, а значит, смерть. Но еще более интересен скрытый смысл стихотворений «Стигмат» или «Раздевание ко сну». Мишель Лейрис
И здесь
Толкует
Будет первый гвоздь
Сюда повесишь
Цитру своих рук
А тот щегол-то
Может в них?
Спросил я
Она глуха на обе черные звезды
<...>
А здесь
Толкует
Гвоздь для головы
Повесь ее ты
Носом к своду пола
А я
Не спрашивал
Стоял я белый с кругом
Как у Крестителя
Над проволочной шеей
(«Раздевание ко сну», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня)
Ключ здесь — вопрос мужчины о том, найдет ли он в любви «щегла», «розу», то есть радость, свежесть, природу. Однако этот ключ открывает путь к потере самосознания, и поэтому стихотворение заканчивается инвертированной аллегорией Иоанна Крестителя. Любовник — пародия на святого: он искал «абсолют», а нашел лишь мазохизм. Чем объяснить такое эротическое приключение? Конечно, детством и юностью. Прежде всего существуют очень сильные запреты, страх перед женщиной, сосудом диавольским; однако очарование не менее сильно, и поэтому бунт против различных табу, почти неизбежный, рождается во имя природы, счастья и гармонии. Он сентиментален, потому что ожидает всего от женщины; но при этом «гуманистичен», поскольку любовь, очищая от безобразности и чувства греха, должна сделать самого любовника мерой собственного мира: он станет «свободным». Именно в величии такой мечты скрыто предвестие поражения: меланхоличная фраза о том, что «счастливой любви не бывает», в европейской традиции означает обычно, что не бывает абсолютной любви. Рождается разочарование и отвращение; видимо, запреты были слишком глубоки, чтобы не проявиться вновь, уже под личиной ожесточения. Постепенно, с годами, эротический порыв так сцепляется с ощущением поражения, что происходит парадоксальная инверсия: любви ищут не во имя счастья и завершенности, а потому, что она несет в себе скверну и предвестие смерти... Теперь она будет более желанной и прежде всего — более искренней. Любовь по-прежнему выявляет правду жизни, но теперь эта правда негативна... Словом, у эротической диалектики Гроховяка два поворотных пункта. В первом любовь получает положительный либо отрицательный знак, ведет в сторону «жизни» либо в сторону «смерти». А если уж отождествить наслаждение и самоуничтожение, завязнуть в одиночестве сексуальных фантазмов, то неминуемо возникает вопрос: впасть ли в отчаяние или — наоборот — испить поражение вплоть до пароксизма, слепо броситься в отчаяние, подсознательно рассчитывая, что где-то в глубинах праха блеснет огонек спасения. В психике все эти возможности предоставляются практически одновременно; поэтому воображение Гроховяка выстраивает весьма разнообразные эротические сюжеты, однако они всегда разыгрываются на поле, которое я пытался очертить.
То есть обычно любовь здесь — это утрата самосознания через безобразность и благодаря безобразности (возбуждающей и тождественной с разложением, со смертью). Подобным образом формируется у Гроховяка ви́дение мира в целом. Итак:
Ибо жить
Означает:
Уйти за мясом Дойти до мяса
Возделать мясо Разделать мясо
Облапить мясо Облаять мясо
Утроить мясо Угробить мясо
<...>
А ОНО ГОРИТ
Оно
Не остынет
Ни в спирте
Ни в соли
Горит
И гниет
Осыпаясь
От боли
(«Горящая жирафа», из сборника «Менуэт с кочергой», пер. А. Базилевского)
Такие восклицания — вырванные из целого — поражают своим наивным пафосом. Однако подобный смысл присущ многим стихотворениям Гроховяка. Биологическое отчаяние «Горящей жирафы», вероятно, представляет собой документ религиозного ужаса. Кто предается отчаянию над «мясом», если не тот, что верил в воскресение тела? Здесь мы просто видим постоянную убежденность в несамодостаточности человека. Сартр, свидетель, которого трудно обвинить в предвзятости, где-то говорит, что от католического воспитания, если оно досталось чувствительному уму, обычно невозможно избавиться до конца жизни. Дело в том, что секуляризация мировоззрения порой означает придание ценности тому, что преходяще и бренно; но чаще — пожизненную ненасытность земными делами. Ненасытность в двояком смысле: все познать, все испытать и вместе с тем ничем не удовлетворяться, со всем расставаться со вкусом горечи во рту. Гроховяка увлекает «мясо», он хочет проникнуть в него вплоть до сокровенных и постыдных тайн; но в то же время ненавидит его, поскольку это всего лишь «мясо», всего лишь жизнь.
Поэтому он пишет экстатические и вместе с тем мученические стихи. Он хочет создать впечатление лихорадки небрежных, безумных ассоциаций (включая случаи, когда он просчитывает эффекты). Ему нравится — поистине барочный — принцип резкого контраста: роза вырастает в корову, придорожная статуя Христа угрожает револьвером, труп становится диковиной вроде говорящего тюленя в цирке. Его терзает страсть к инверсии; однако ценит он ее за то, что она создает ощущение беспорядка, а не потому, что она иногда способствует уточнению мысли. (В этом же причина увлечения Норвидом: современный поэт порой перенимает как раз то, что у Норвида является ценой, заплаченной за краткость и оригинальность, то есть попросту причудой.) Он часто обращается к повторам: опять же не для того, чтобы «замкнуть», более точно обрисовать чувство или образ, но потому, что анафорой легче всего выразить одержимость. Он смешивает настроения (высокий стиль с весьма грубой вульгарностью) и в особенности способы высказывания: ему хочется создать эффект хаоса, то выражаясь изысканной аллегорией, то излагая свою мысль «по-крестьянски», с намеренным примитивизмом. (Так возникло мнимое родство с Галчинским; однако тот обычно доводил стихотворение до доминанты, а кроме того — не любил смерть, стремясь, скорее, укротить ее классицизмом.) Он постоянно заботится об усилении эффектов, умышленно поднимает температуру стихотворения: было бы нетрудно показать, что эпитеты Гроховяка на два, три градуса выше и резче, чем того требует контекст; впрочем, уже обилие прилагательных свидетельствует об экспрессионистской манере. Словом, поэзия для Гроховяка — что-то вроде священной истерии: отношение поэта к действительности имеет экстатическую природу. И нет ничего неожиданнее, чем похвалы Пшибося в адрес Гроховяка: ведь они исповедуют диаметрально противоположную поэтику; и как же мог не заметить Пшибось, что источники примитивизма здесь религиозные, исключительно метафизические? Такие недоразумения, однако, бывают и плодотворными: они освежают понимание поэзии; Пшибось, вероятно, меньший «рационалист», чем ему и нам кажется.
У истерик, контрастов, экстазов Гроховяка определенная направленность: конечно, в сторону безобразности, что заметили все. Сам поэт высказывается как нельзя более ясно:
Чту безобразность
Суть ее яснее
При вспышках света
В муках истязанья
<...>
Есть в мире люди чистые настолько
Что вслед им пёс
И то не станет лаять
Хоть не святые
Да и не тихони
(«Чистые», из сборника «Раздевание ко сну», пер. Ю. Левитанского)
Одним словом, безобразность более подлинна. По сравнению с чем? С лицемерием, самодовольством, элегантной мертвечиной, конечно: но — как я уже говорил — прежде всего по сравнению с верой в ангелоподобие человека. Гроховяк дебютировал в «Керунках»
Что нет любви ты ощущаешь с грустью
Без крика (попрошу вас)
А (прошу) обычно
Обычно с челюстью между коленей
С последним волосом на лысине кривой
Встаешь Стоишь
Желая этим обозначить гордость
Хотя свеча порою выглядит достойней
Душа тогда настолько коченеет
Что ноги мерзнут
Чтобы образу придать
Величие представим
В густом снегу горящую Москву
Среди пожара
Маленький Наполеон
Грел в ротике синеющие ногти
(«Реквием», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня)
Если в эротике Гроховяка наслаждение означает — проще говоря — гибель, то лирическое созерцание ведет — в конечном счете — к мученическому сарказму. Красота, от которой больно:
На синих улицах дома белы — и остры
Как будто прямо в угол бьется глаз
(«Утрилло», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня) —
красота, которая парадоксально следует из комичности:
<...> с кругом
Как у Крестителя
Над проволочной шеей
(«Раздевание ко сну», из сборника «Раздевание ко сну», пер. В. Окуня) —
вот открытия Гроховяка. Иначе говоря — речь здесь об «антикрасоте», порождаемой, очевидно, мазохическим импульсом. Раствориться в смерти, безобразности и страдании, но сделать это смешно, избавляясь от утешения трагизмом... Конечно, здесь (неизбежно) присутствует литературный обман: человеческое достоинство, несмотря ни на что, спасено, поскольку даже дело разрушения остается ДЕЛОМ: оно свидетельствует о мощи сознания, об аутентичности, с которой переживается собственная судьба. Гроховяк попал в тональность, общую для целого течения нашей современной литературы: так же как Ружевич или — из более молодых — Станух
1960
Из книги: Блонский Ян. Поэзия как спасение. Очерки о польской поэзии второй половины ХХ века / Пер. с польского В. Окуня, С. Панич и В. Штокмана. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2022.