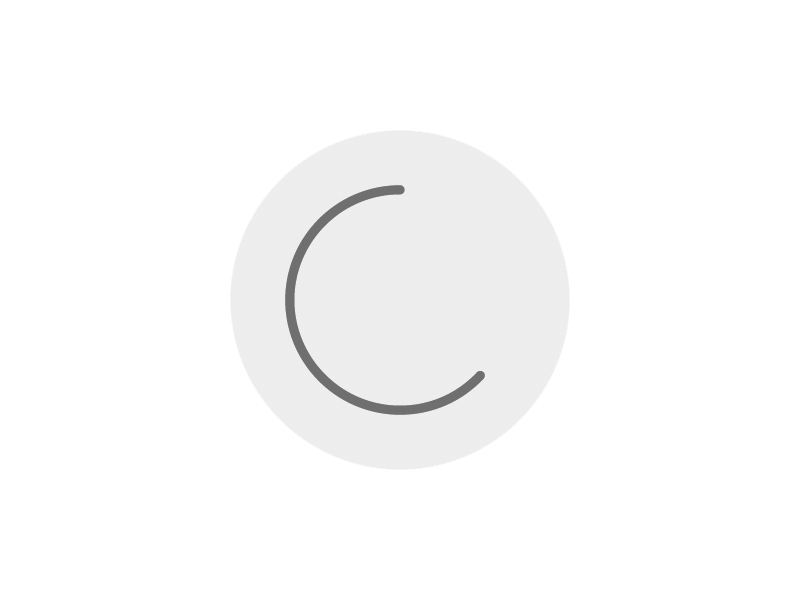Чтение Блонского
Правильней было бы сказать «прочтение текстов Блонского», поскольку речь пойдет о собрании его очерков о поэзии. Однако я отказался от этой, несомненно, более строгой, точной и вместе с тем менее метафоричной формулировки: в ней теряется самое главное, что отличало этого критика и историка литературы, — поразительное единство чтения и жизни, нераздельность глубинного переживания и открытого, публичного продумывания. В его ярких эссе раскрываются не только литературные явления, но и он сам, поскольку жизнь для него состояла в том, чтобы вчитываться в тексты и писать о них.
1.
Как заметила Тереcа Валяс, этот критик читал всем своим естеством — и тем отличался от собратьев по цеху, именно таким он запомнился:
Чтение, мышление о литературе, работа над статьями и книгами о ней — все это составляло для Блонского не профессиональную обязанность, а образ жизни, способ бытия в мире и вместе с тем дело ответственности не только перед самим собой и «общественностью», как бы ее ни понимали, но перед Богом. Он был пылким критиком, и сам не раз это признавал, более того, утверждал, что литература требует страстности (неслучайно один из его сборников литературно-критических эссе называется «Роман с текстом»), постоянно напоминал о необходимости, обязательности личного отношения к прочитанному, о неповторимом, личностном «росчерке», который исследователь оставляет на каждом акте познания
Walas T. Historyk w krytyku, krytyk w historyku [Историк в критике, критик в историке] // Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ [Многоголосие. Журнал факультета полонистики Ягеллонского университета]. 2014. №4. S. 16. [1].
Нимало не сомневаясь в ценности и пользе «инструментария» новейших методологий
было бы столь же оправданно назвать его критиком в более общем смысле, близком к тому, который закрепился во французской, английской и англосаксонской традиции, где под литературной критикой подразумевалось профессиональное литературоведение. Применительно к Блонскому мы вправе говорить о такой критике, которая не признает (полагает невозможным) разделение а) фактов и ценностей; б) собственного опыта, убеждений, знаний и нейтрального описания якобы независимо существующих смыслов; в) полностью автономной области литературы и целого общественно-политической жизни, истории и культуры. Обычно он избегал теоретических, равно как и методологических, деклараций — объяснял это отсутствием «талантов теоретика», хотя подлинной причиной была искренняя нелюбовь к поспешным обобщениям, к «амбициям системы» и попыткам втиснуть неповторимую личность (или особенности) в идеологический корсет, — но о своем понимании критики высказывался несколько раз и вполне определенно
Nycz R. Błoński, nasz współczesny [Блонский, наш современник] // Teksty Drugie [Иные тексты]. 2009. №3. S. 7–8. [5].
Чем объяснить ставшую притчей во языцех неприязнь Яна Блонского к теоретическим построениям и системному мышлению? На мой взгляд, одна из причин состоит в уже упоминавшейся приверженности личностному, экзистенциальному прочтению. Здесь необходимо уточнить: экзистенциальное в понимании Блонского всегда тождественно существующему в отношениях, во взаимосвязях и взаимозависимости, в диалоге. Системность для него — не только враг индивидуальности и неповторимого бытия, но антагонист диалогичности. Как в свое время утверждал в нашумевшей, хотя и несколько декларативной статье «За что мы должны любить Яна Блонского» Януш Славинский, мы любим этого критика именно за то, что каждый его текст — это разговор с самим собой и с миром, его творчество рождается из события встречи и всецело определяется диалогической позицией:
<...> исходная потребность Блонского — встреча. Первейшая из всех потребностей, поскольку реальность встречи определяет его литературно-критический подход, обусловливает стремление задавать вопросы (в том числе самому себе), анализировать, продумывать, концептуализировать, описывать в категориях
Sławiński J. Za co powinniśmy kochać Jana Błońskiego [За что мы должны любить Яна Блонского] // Teksty i teksty [Тексты и тексты]. Warszawa, 1991. S. 167. [6].
В определенном смысле можно бы говорить о склонности Яна Блонского к театрализации литературной критики. Его тексты созданы режиссером диалогического действа. Монологи — не более чем выход на авансцену, театральный прием. Мы слышим, как под его поверхностью бьется пульс разговора, разгорается спор, участники вопрошают, парируют, перебрасываются меткими ответами. Это подтверждают те, кто хорошо знал критика:
<...> трудно отделаться от мысли, что Блонский обращался с текстами как с людьми, а с людьми как с текстами. В обоих случаях диалог начинался с приятельски-колючих расспросов, своего рода шуточной «перебранки»; она выводила собеседника из благостной дремоты согласия с собой, то есть отождествления с ролью, позицией или ситуацией, в которой он уютно обосновался и чувствовал себя в безопасности, с которой сросся или был естественным образом связан. Экспериментальная смена ситуации, переиначивание предпосылок, доведение выводов до крайности, проверка силы и достоверности утверждений иронией и смехом... вот лишь немногие средства, с помощью которых Блонский создавал — в повседневности, равно как и в читательском общении с текстами — действо многоголосого спора, в котором наряду с голосом текста (голосом собеседника) звучат голоса порой из скромности не названных предшественников и противников, голоса здравого смысла и самодовольной утонченности, апологетов и насмешников. За этим, на мой взгляд, стояло убеждение в том, что правда о тексте (равно как и правда о другом, о мире и о самом себе) не сводится к внутренней убежденности, силе интуиции или сокрушительной мощи логической аргументации, но открывается в диалогическом взаимодействии, в созидании пространства открытой полемики и одновременно совместного поиска и понимания
Ср.: Nycz R. Jana Błońskiego teatr interpretacji [Театр интерпретации Яна Блонского] // Jan Błoński... literatura XX wieku [Ян Блонский и литература XX века]. S. 66–77. [7].
Таким образом, из текстов Яна Блонского мы узнаем не только о литературе, но и о самом критике, о том, как он воспринимал реальность и высказывался о ней. Индивидуальность человека, дерзающего оценивать и комментировать литературную жизнь, проявляется прежде всего в самобытности языка, которым он пользуется. О его независимости по отношению к исследовательским школам и стандартным приемам анализа художественного текста свидетельствует избранная им форма повествования. Стилевое новаторство и виртуозность Блонского вошли в легенду. Как пишет Тереса Валяс,
его манера высказывания узнаваема и притягательна — свободный стиль, который отличается зачастую афористичной цельностью формулировок, образный, искрящийся, динамичный, тяготеющий то к живой, разговорной речи, то к поэтическому слову. Такова языковая стихия эссеистики высокой пробы, язык, который вправе избрать для себя критик (хотя это, как известно, случается далеко не всегда), тогда как историк литературы, ограниченный жесткими требованиями научности, терминологической однозначности и строгости в выборе средств, может прибегнуть к нему лишь в особых случаях. Блонский-критик, блестящий эссеист подчинил ему историко-литературный дискурс, животворил его духом тусклую, застывшую форму. Он придал ей легкость, гибкость, риторический блеск; сухие рассуждения о содержании и форме превратил в живое театральное действо мысли, огромную эрудицию представил как захватывающее приключение ума, зримо постигающего хорошо узнаваемое свое время. В этом дискурсе историк литературы и критик преодолевают свою теоретическую, равно как и проявляющуюся на практике обособленность и сливаются в единый Голос Яна Блонского
Walas T. Historyk w krytyku, krytyk w historyku [Историк в критике, критик в историке]. S. 21–22. [8].
Означает ли это, что нынешний сборник можно читать как своего рода дневник литературного критика, свидетельство его становления? В определенном смысле да... Хотя хронологическая последовательность в данном случае не очень важна, я старался, по мере возможности, ее сохранить, чтобы читатель мог следить не только за последовательным формированием исследовательских интересов Блонского, но также за тем, как развивались его читательские навыки и воображение, расширялся опыт и мировоззренческие горизонты, обострялась чуткость к социальной проблематике, наконец, за тем, как складывался и обновлялся его исследовательский «аппарат». Недаром он говорил, что
инструментарий критика обогащается по мере того, как духовно богаче становится он сам. Если писатель (мы признаем за ним такое право) преломляет и обобщает разнообразный опыт, критик, читая чужие произведения, роясь в кладовой наук о человеке, в конце концов, живя среди людей, воссоздает в своих текстах не что иное, как историю собственных переживаний и мировоззрения
Błoński J. Gospodarstwo krytyka. Pisma rozproszone. Pisma wybrane [Хозяйство критика. Отдельные сочинения. Избранные сочинения]. T. 3 / Red. M. Zaczyński, J. Jarzębski. Kraków, 2010. S. 20. [9].
Так каким читателем был Ян Блонский? Каким он предстает в эссе, собранных в этой книге? Ответ напрашивается сам собой: мы имеем дело с яркой, многосторонней, динамичной и противоречивой личностью. Его противоречивость — еще один сквозной мотив воспоминаний. Снова прислушаемся к Тересе Валяс:
Ян Блонский был, по крайней мере для меня, загадочной фигурой, он не вписывался в одномерный образ. Поляк, католик, добропорядочный гражданин, примерный отец семейства, моральный авторитет и одновременно знаток и вдумчивый интерпретатор поэтов, чье творчество питается болезненной извращенностью — эротической, нравственной, интеллектуальной, поэтов, которые не утешают, а глумятся, смотрят скорее в пропасть, чем в небо. Человек блестящего ума, властитель дум, как говорили в старину, ведущий критик, ученый, профессор, европеец, одна из ключевых фигур интеллектуальной и культурной жизни — все эти роли он добросовестно исполнял и одновременно дистанцировался от них близоруким ироничным прищуром или своим знаменитым смехом, всегда неожиданным, коротким, словно всхлипывающим прысканьем, которое врывалось в гладкое течение лекции или дружеской беседы
Walas T. Głosy o Błońskim [Мнения о Блонском] // Znak [Знак], 2011, № 668. [Электронный ресурс] http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6682011glosy-o-blonskim/ [10].
2.
Нимало не отрицая субъективность и пристрастность многих суждений Блонского, я убежден, что его работы обладают огромной познавательной ценностью. Собранные в одном томе — пусть даже это выборка, — они выстраиваются в своеобразный, личностно окрашенный курс истории польской литературы XX века. Блонский был прежде всего критиком, но при этом превосходно владел историко-литературным инструментарием; его интерпретации не раз помогали выстроить картину литературного процесса. По мнению Тересы Валяс,
в его литературно-критических (а ранее — в рецензентских) статьях присутствует то упорядочивающее начало, которое можно бы определить как «системообразующее понимание». Практически в каждом очерке создается живой, цельный образ литературного процесса: анализируя то или иное произведение, критик открывает — вглубь — область традиции, вширь — пространство контекста; задаваясь вопросами о социальном фоне, показывает сокрытые под спудом ценностных систем мировоззренческие позиции и текстуальные связи. В результате возникает синтезирующее описание, обладающее чертами историко-литературного анализа, но не содержащее стандартной терминологии, предписанной литературоведческой конвенцией. В нем нет ни слова о «направлениях», «течениях», «школах»; автор пользуется понятием «литературное поколение», но оно в равной мере принадлежит к обоим глоссариям — литературно-критическому и историко-литературному. Блонский прибегает к собственным принципам классификации и «различителям» (таковым у него выступает миф) и последовательно мыслит в ценностных категориях
Walas T. Historyk w krytyku, krytyk w historyku [Историк в критике, критик в историке]. S. 18. [11].
Книга, которая предлагается вниманию читателей, позволяет увидеть весь временной горизонт творчества Блонского. В ней представлен ранний очерк о поэзии Тадеуша Ружевича, опубликованный в журнале «Твурчость» в 1949 году, равно как и поздние эссе, появлявшиеся на страницах «Тыгодника повшехного» в начале третьего тысячелетия. Тем не менее это выборка, в которую вошли далеко не все тексты. Мы отбирали наиболее интересное, наиболее ценное — и по неизбежности отказались, например, от запечатлевших колорит печальной эпохи очерков начала 1950-х годов — они не выдержали испытания временем. Этот сборник не претендует на систематический курс истории литературы; скорее, перед нами собрание частных лекций, темы которых определяются личными пристрастиями. Не то чтобы Блонский был не способен создать цельную концепцию литературного процесса, но ему не хотелось ее создавать. Он неизменно подчеркивал, что его отношения с литературой строятся исключительно на эмоциональной близости, отстаивал право критика на «влюбленность», на привязанность к любимым авторам. Если в начале 1960-х годов его пристрастность еще не столь очевидна, в 1970-е годы она полностью определяет выбор и прочтение текстов. Как замечает Тереса Валяс, «в пространстве его интересов к этому времени остались только те авторы, о которых, как он сам говорил, можно писать всерьез»
о своей вере Блонский говорил редко, однако в литературно-критических статьях не скрывал, да что там, показывал, что поиск религиозной составляющей литературы и следов, ведущих к sacrum (впрочем, он редко использовал это слово), представляет для него огромную ценность
Biedrzycki K. Doczytywanie Błońskiego. Krytyk intymny (O książkach Jana Błońskiego „Gospodarstwo krytyka. Pisma rozproszone” i Błoński przekorny. Dzienniki. Wywiady” w wyborze i opracowaniu Mariana Zaczyńskiego) // Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ [Многоголосие. Журнал факультета полонистики Ягеллонского университета]. 2011. №1. S. 169. [13].
Не потому ли Блонский так внимательно и последовательно анализирует творчество Чеслава Милоша и Тадеуша Новака, что слышит в их стихотворениях биение метафизического пульса? Наряду с литературными зарисовками о Яне Польковском или Яне Лехоне он пишет очерк «Еще о поэзии и святости», интерпретирует стихотворения Кароля Войтылы и Яна Твардовского; эссе, посвященные их творчеству, также вошли в эту книгу.
Собранные воедино, прочитанные через много лет, оторванные от исторического контекста, в котором они создавались, представленные в сборнике тексты Яна Блонского обнаруживают еще одно свойство, впрочем несомненное для почитателей его творчества, — они неподвластны времени. Его формулировки не утратили новизны, его наблюдения по-прежнему пробуждают мысль. Я убежден, что эссе Блонского не только служат «путеводителем» по истории польской поэзии, не только втягивают в захватывающее читательское приключение, но ведут в те глубины, где мы встречаемся с поэтами — и с самими собой, пытаемся понять, кто мы и кем можем быть — не в будущем, не где-то, а здесь и сейчас.
Из книги: Блонский Ян. Поэзия как спасение. Очерки о польской поэзии второй половины ХХ века / Пер. с польского В. Окуня, С. Панич и В. Штокмана. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2022.
Книга вышла из печати!